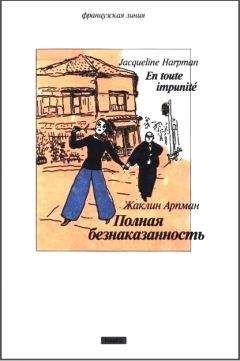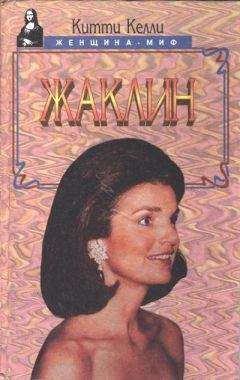Жаклин Арпман - Орланда
Но мы отвлеклись. Итак, Орланда, скорее всего, знал, что он такое, но имел более чем смутное представление о том, что ему нужно от Алины.
— Не знаю, — ответил он.
Она остановилась, нахмурилась.
— Как вас зовут?
Он на мгновение запнулся.
— Э-э… Люсьен Лефрен.
— Вы как будто не слишком в этом уверены!
— Скажем так: Люсьен — имя моей физической сущности.
— Ага… Тогда как же зовут духовную?
— Раз вы — Алина, я, наверное, мог бы быть Аленом. Но я никогда не любил имя Алина — оно отдает бабушкиным вареньем или кошками тетки-холостячки, так что и Ален — это, пожалуй, не совсем то.
Алина спросила себя: «Что он там такое болтает?» — решила, что все это полная дичь, потом мысли спутались, забуксовали и окончательно потерялись в глубинах подсознания.
— Поэтому, — подвел итог Орланда, — лучше мне остаться Люсьеном.
Однако в промежуток между первой и второй порцией мороженого вместились ложь Альберу, щелчок по носу Шарлю, необъяснимые кошмары и еще очень много всякой всячины. Все это провалилось в глубины располовиненной души Алины, а она не была бездонной пучиной и вряд ли могла вечно хранить столь обременительный груз.
— И чем же Люсьен Лефрен занят в этой жизни?
— А ничем! — весело ответил он. — Несколько дней назад писал глупейшие статьи и откладывал деньги, но теперь все иначе. Он стал другим человеком. Я развлекаюсь.
— Глупые статьи?
Он рассказал про Амурадору.
— Достаточно было просто «положить на бумагу» записанное на пленку интервью — а я не смог. Думаю, я скорее стал бы торговать своим телом — но не пером! — заявил он, с приязнью в душе вспоминая Поля Рено: «Так хоть удовольствие получить можно!»
Молодой человек забавлял Алину. И все-таки: кто еще, кроме Шарля, так хорошо знает Бальзака, что, оказавшись в затруднении, вспомнил алькальда Севильи? А парень продолжал:
— Всего и делов — облечь девятнадцатый век в современную лексику. Идея до противности банальна — наряжает же постановщик Вагнера своих героев в «Гибели богов» эсэсовскими офицерами!
Богов или Нибелунгов? В «Гибели богов» или (что вернее!) в «Золоте Рейна»? Алина вдруг поняла, что снова позволила собеседнику увлечь себя разговором, и попыталась перехватить инициативу:
— Так. Хорошо. Вы знаете Пруста и Бальзака, глупости, творимые с Вагнером, раздражают вас не меньше моего, и все-таки это не ответ на мой вопрос.
— Вам со мной скучно?
— Нет. — Следовало быть честной. — Но это здесь ни при чем. Что вы делали у моей двери вчера вечером и как потом оказались на улице Флоренции?
Орланда колебался. Он и сам не знал, почему так настойчиво преследовал ту, от которой сбежал, но не мог не признать: да, он наслаждается своей новой жизнью, но нечто необъяснимое толкает его к Алине, и это доставляет ему удовольствие.
— Вы не поверите, — наконец сказал он, смеясь.
У этого смеха был привкус неуверенности. Честно говоря, нынешнее состояние духа Орланды описать непросто — чувство удовлетворенности и некоторое самодовольство экранируют более сложные эмоции. Он приблизился к Алине, не имея никакого определенного плана. Интригуя ее двойным шоколадным соусом, он твердо верил, что хочет просто развлечься. Он в первый раз отправился на площадь Константена Менье, сказав себе, что пора проветриться, а накануне вечером вообще не понимал, что делает, — просто бежал и бежал, а потом заснул на тротуаре… чтобы не задумываться. Возможно ли так плохо разбираться в побудительных причинах собственных действий? Или же это сверхнаивность — верить, будто знаешь, куда идешь? Неужели человек, отправляясь купить газету, всегда неосознанно стремится к недостижимому, которое притаилось в темноте и дразнит нас? Андрогины, разъединенные по воле ревнивых богов, мы гонимся за своей утраченной половиной, пытаемся воссоздать первородное единство: где мое другое «я»? что сталось с той восхитительной цельностью, которую я помню, в какой жизни я ее испытал? Разделенные Алина и Орланда тоскуют и хотят воссоединиться: каждый ненавидел другого, когда они были вместе, но, повинуясь воле завистливых олимпийцев, не узнавали друг друга и сражались. Они не понимают, что за подспудное притяжение движет ими, да и я, говоря, что Люсьен показался Алине красавчиком, путаюсь и иду на поводу у здравого смысла, а он, как известно, враг воображения. Истина в том, что каждый из них хочет другого и битва начинается.
Итак, Орланда сказал Алине, что она ему не поверит, а она в ответ пожала плечами.
— Это классическая реплика оборотня и вампира из фантастического фильма: зритель, знающий правду, хихикает и издевается над наивным героем, который не поверит и будет съеден.
— Вы верите в оборотней?
— Нет! — Она засмеялась. — Вы выиграли. Я бы вам не поверила!
Они вошли в кафе и сели за столик. Народу в зале было мало, официантка тут же подошла к ним, и Орланда заказал пломбир.
— Я знаю, что вы были на улице Флоренции, и хоть и с трудом, но могу себе представить, что вы сдули пыль с моей диссертации, чтобы прочесть ее, но, убей меня Бог, не понимаю, как вы там оказались.
— Да просто я знал, что вы там ужинаете.
— Вот это объяснение!
Орланда впал в мечтательную задумчивость. Впервые, не пряча голову в песок, он смотрел на себя со стороны, видел свою бешеную гонку вдоль по улицам, впервые задавался серьезными вопросами.
— Возможно, мне вас не хватало, — добавил он.
— Как меня может «не хватать» кому-то, кого я не знаю?
— Я уже говорил, что я вас знаю.
— Кто вы?
— Вы.
У Алины на лице было абсолютное непонимание, и Орланда добавил:
— Вернее, часть вас.
— Вы были правы — я вам не верю, — спокойно сказала Алина.
Именно в это мгновение Орланда понял, чего хочет. После Парижа он забавлялся до одури, но этого ему было мало. Занимать тело Люсьена Лефрена и делать все, что запрещала себе Алина, — всего лишь фрагмент мозаики: он жаждал, чтобы она узнала, чтобы мысленно — а может, и самолично — была с ним. «Я хочу лишить ее невинности», — сказал он себе, потому что разудалый цинизм с легкой примесью распутства казался более приемлемым, чем порыв, который сейчас подталкивал его в спину. И он попытался убедить ее: странно, но, если хорошо подумать, нет ничего проще, чем доказать кому-нибудь, что вы — это он, достаточно перечислить вещи, которые может знать о себе только сам этот человек и которые его пугают! То, чего я никогда не произносил вслух, определяет меня, изолирует в пространстве как особь. То, что я одна знаю о себе, охраняет мои границы: здесь — я, там — остальной мир, не знающий того, в чем я никогда не признавалась. Это я выпил шоколад с молоком, приготовленный для моей маленькой кузины, я разбил графин, я съел банку варенья… От этих маленьких детских грешков мы свирепо открещивались, не понимая, почему так поступаем, скорей всего, из страха наказания, но, когда выросли… Право же, возьмите себя в руки, ну — не казнят же вас! Мама так мучила меня ежедневными витаминами и протеинами, ее так заботило мое здоровье, что разве только слегка пожурила бы меня. Нет, для того, чтобы объяснить столь яростное «запирательство», нужно другое объяснение, более жгучая потребность, я хотел возвести барьер между другими и мной, хотел «пометить» свою территорию, заявить: здесь, в этом месте, только здесь точно известно, кто выпил шоколад, и это — Я.
Орланда сказал Алине, что она стащила пакетик мятных леденцов.
— Но вы не можете этого знать! — в ужасе воскликнула она.
— И все-таки я знаю.
Алина попыталась прибегнуть к рациональному объяснению, над которым сведущий зритель тоже будет хохотать до упаду.
— Должно быть, я кому-нибудь рассказала…
Он насмешливо рассмеялся.
— А графин? Ты не забыла синий графин, который так любила мама? Она еще говорила, что вода в нем приобретает цвет неба и привносит в столовую аромат лета. Ты находила ее слова смешными, но папе это нравилось, и ты злилась: это я разбил графин в тот день, когда она уж слишком доставала, и ты знаешь, что сделала это нарочно, проходя мимо кухонного столика на колесах, который я запросто мог обойти, но мне надоели ее вечные «Не бегай так быстро!», «Не размахивай руками!» — и ужасно захотелось размахнуться по-настоящему.
Алина застыла, как изваяние.
— А Морис Алькер? Я не совершу бестактности и не скажу всего, что знаю о Морисе Алькере, — не стоит ранить стыдливость юных дев, но ведь ты и об этом ни с кем не говорила, правда? Вчера вечером я встретил человека, который очень на него похож.
— Он умер, — прошептала Алина.
— Я знаю. Ты даже пролила несколько слезинок — он стоил большего, но в глубине души ты так ему и не простила, что он тебя не соблазнил. В восемнадцать в твоей душе жила слабая надежда: он говорил тебе, что ты красивая, но тем дело и ограничивалось. Ты просто не поняла тогда, что он ждал от тебя сигнала, какого-нибудь жеста…