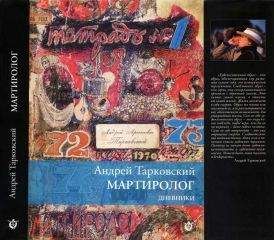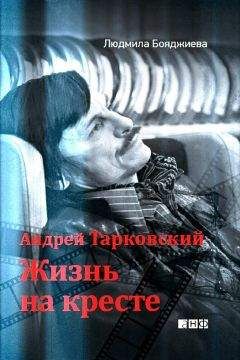Олег Лукошин - Первое грехопадение
Потом я вновь услышал их — они неслись сейчас со второго этажа. Верный своим побуждениям, я пошёл на звук. Но и второй этаж был пуст, а звуки доносились уже откуда-то с первого. Я спустился к столовой, долго всматривался сквозь стеклянную дверь в темноту актового зала, прошёлся мимо школьных мастерских — везде было тихо и спокойно. А звуки я потерял окончательно. Они оборвались вдруг, и я подумал поначалу, что лишь на время. Но время шло, а в школе царила всё та же глухая сдавленная тишина с традиционными и безобидными ночными шорохами. Сердце моё ёкнуло. Уже не сдерживаясь и не стараясь казаться неслышимым, я обежал ещё раз по этажам, заглянул во все туалеты, тёмные углы и прочие закутки, но всё напрасно. Никого нигде не было.
Отчаявшийся, я спустился вниз, в свою будку. Уже зашёл в неё, уже уселся в кресло, но вдруг что-то вещее колыхнулось во мне. Дверь учительской, она закрыта… Она закрыта… Рывком я сорвал с щита ключ, домчался до учительской, вставил его в замочную скважину и двумя поворотами открыл замок. Вошёл внутрь. Уже слабеющий, уже поверженный…
Последние метры до дивана доползал на коленях. Уткнулся в её ноги, потёрся щекой о коленку, поцеловал её. Перебрался к изголовью и здесь погрузился в её губы, её волосы, её нежность. Такими чудными, такими прекрасными были её глаза и, несмотря на темноту, я видел извилистые жилки на роговицах. Каждый волос ресниц, каждую морщинку век, каждую пульсацию зрачков видел я тоже. Видел и прикасался к ним языком.
— Ты весь горишь, — шепнула она. — И дышишь как загнанный.
— А ещё сердце — ты слышишь, как оно колотится?
— Что же с тобой? — тень улыбки скользнула по её лицу и нотки иронии прозвучали в словах.
— Не знаю.
— Ты не болен?
— Я болен. Я болею всё время, пока ты не со мной, но борюсь с болезнью. Когда же ты рядом — приступы обостряются.
— Неужели я причина этому?
— Ты, твой голос, твои глаза… Знаешь, а ведь порой мне хочется выздоровления.
— Выздоровления?
— Да. Но я знаю, что это неосуществимо.
— Ну почему же, стоит лишь пожелать.
— Я не желаю… Мне хочется иногда, да, но я слаб в эти моменты, мне просто кажется всё слишком изумительным и оттого опасным. Я прогоняю слабость, я не желаю…
— Желай, но лишь в минуты слабости. И пусть их будет как можно меньше.
— Их не будет больше.
Воплощённая стихийность, абсолютная потерянность — я никогда не представлял себе этого. Не ощущал в полной мере — лишь ветерок от колыхания крыльев, лишь лёгкий озноб, улетучивающийся через мгновение. Я не безвозвратность, не конечность, я не могу в полной мере и с явным воплощением. Есть посильней меня, я знаю — есть. Хрупкость уносится, частицы рушатся, новая вязкость обволакивает сферы. И я непосредственен, я естественен, я явен. Я прорываюсь сквозь жерло и прикасаюсь к горечи. Она жжётся, но так надо — я тоже делаю ей больно.
— Как у тебя дела, как ты сам вообще? — она держала мою ладонь и перебирала пальцы.
— Мне хорошо в последнее время. Даже очень, и это кажется странным.
— Почему?
— Ну как же… Как может быть мне хорошо так долго — так думается. Это глупо, да?
— Да, глупо. А хорошо — это как?
— Я спокоен, я умиротворён. Вокруг меня тишина.
— А ещё?
— Во мне угасло безумство мыслей. Я больше не насилую себя ими. Во мне снова моя тихая печаль. Я не скорблю, я лишь грущу и рад этому. Она переливается, как робкий ручей и не оставляет налёта. Она чиста и лучезарна.
— Она печаль всё же.
— Да. Но я люблю её. Её, тебя.
— Себя…
— Себя.
— Себя, должно быть, больше.
— Я — центр путей. Во мне сходишься и ты, и печаль…
Она тихо засмеялась. Обняв меня, прислонилась щекой к плечу.
— Расскажи мне что-нибудь, — выдохнула кротко.
— Что?
— Что-нибудь.
— О чём?
— О чём хочешь. О себе, обо мне, об этой ночи, этих звёздах…
— Звёздах?.. О звёздах могу.
— Я замерла, я жду, я слушаю.
— Знаешь ли ты, что многие из них уже потухли?
— Потухли?
— Да, их нет на самом деле. Они погасли миллионы лет назад. Уже миллионы лет они являются ничем — холодными, распадающимися атомами. Уже миллионы лет, как погибли все жизни, что согревались лучами этих светил, жизни, для которых светила эти и были Жизнью. Их нет сейчас и это длится миллионы лет. А мы всё видим их, изумляемся. Именно благодаря им…
— Что благодаря им? — спросила она после паузы.
— Не важно… Я что-то слишком мрачен сегодня.
Мы молчали какое-то время.
— А про луну, что ты знаешь про луну?
Я заглянул ей в лицо. Оно было спокойно и внимательно. В нём не таилась хитрость, тревога была ложной.
А луна смотрела прямо в окна. Она зависла совсем недалеко от её лица, круглая, сияющая.
— Нет, — покачал я головой. — Про луну я ничего не знаю.
На следующий день мне не суждено было дойти до института.
А начинался он вполне обычно. Я сдал вахту и с легчайшим, лишь на пару минут, опозданием отправился в путь. Расстояние от дома до института составляло километра три. Два и ещё метров восемьсот я прошёл нормально. Но вот когда до института оставалось двести метров и здание его, коричневое, мрачное, уже маячило перед взором, меня угораздило вдруг столкнуться плечом с каким-то кабаном.
Я всегда удивлялся этим ситуациям и никогда не понимал, как они вообще могут возникать. Идёшь по дороге, навстречу движется человек, вы всё ближе друг к другу. И вот, когда между вами остаётся каких-нибудь два метра, возникает что-то странное: какая-то мёртвая зона — положение, когда уже невозможно разойтись. Ты делаешь шаг вправо, но и он поворачивает туда же; ты шагаешь влево, и в ту же секунду твой визави совершает движение в эту же сторону. Если идти прямо, то и он будет двигаться так же. Удачное разрешение — если вдруг в самый последний момент кто-то из вас двоих всё же поймёт замысел другого и двинется в противоположную сторону. Неудачное — вы столкнётесь. Моя мёртвая зона закончилась неудачей.
У меня было ужасно скверное настроение. Я не выспался, тучка невесёлых мыслей набежала поутру, во всём теле ощущалась сплошная ломота и неконкретность — всё это тоже одна из причин произошедшего. Главное дело, шёл-то я по самой середине дороги, и надо же такому случиться, что этот бык шёл так же, по середине. Мы попали в мёртвую зону. Пара мгновений напряжённых и трагических метаний, главным образом с моей стороны, закончились безуспешно, мы неумолимо сближались. И вот в этот-то момент я решил вдруг фраернуть. Я встал как вкопанный, выставив вперёд грудь и недвусмысленно давая понять, что уступать дорогу из нас будет он. Я был не прав конечно, мне нужно было встать как-нибудь бочком, делая вид, что хочу интеллигентно разойтись, я так всегда и делал раньше. Но вот бывают же такие моменты, когда всё — действия, слова, мысли даже — сводятся к одному, чему-то такому неизбежному, необратимому. Дай я понять, что уступлю дорогу, он бы тоже сделал неуклюжее движение навстречу. Сделал бы обязательно. Но…
Он отшвырнул меня плечом в сторону, матюгнулся и зашагал дальше. Да, зашагал, ему и сейчас было не до меня, он торопился. Я бы мог спокойно продолжить свой путь, благополучно добраться до института, отсидеть положенные занятия и пойти домой. Но не тут-то было: я завёлся. На меня нашла такая злость, такая ярость, какая находила нечасто. Развернувшись вслед уходящему парню, я заорал:
— Ты охамел что ли, чмо!?
— Что? — остановился он.
— Широким стал!? — кипела во мне ярость. — Жить — насрать!?
— Ни хера себе! — вымолвил он удивлённо, и я увидел, как сжимаются его кулаки, на лбу складываются борозды, а глаза вылезают из орбит.
Он сразу же врезал мне. Удар был хорош, но вреда мне причинил немного. Зато вызвал новую вспышку ярости — я отбросил свой пакет с учебниками и нанёс ответный удар. Довольно неплохой.
Он был ниже меня ростом, но зато в два раза шире. Мы дрались недолго и он, конечно же, сделал меня. Иного исхода и быть не могло. За свою жизнь драться мне приходилось немало и драться я не боялся. Одно только плохо — я как правило оказывался битым. Оказался и на этот раз. С весьма печальными для себя последствиями. У охламона этого была на руке печатка — он расковеркал ею всё моё лицо. Поначалу, впрочем, я держался неплохо — пустил ему кровушку. Но чем дальше, тем сильнее я сдавал — пропускал всё больше ударов, сам же почти не отвечал. В конце концов он так удачно двинул мне, что весь белый свет поплыл у меня перед взором. Я сумел удержаться на ногах — пошатываясь, отковылял в сторону, присел на сугроб и, зачерпнув ладонью заледенелый снег, погрузил в него лицо. Драться я больше не мог. Парняга тоже понял это. Зашвырнув на прощание мой пакет на обочину — прямо в снег и грязь — он продолжил свой путь.
Я сидел на снегу и останавливал кровотечение. Лица своего я не видел, но чувствовал — оно распухло. Левый глаз почти закрылся, губы были разбиты. А по дороге шли студенты — опаздывающие, торопящиеся. Они шли всё время, пока длилась драка. Сторонились нас, обходили, косились. Теперь они смотрели на меня — идиота с разбитой харей, который сидел в сугробе и тупо оглядывался по сторонам.