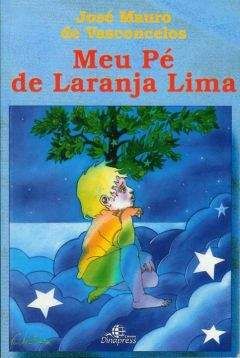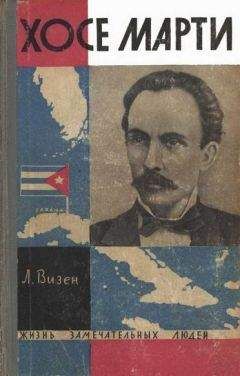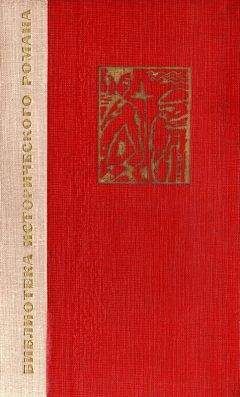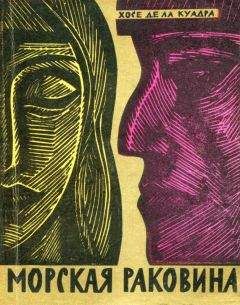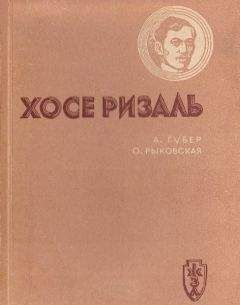Хосе Лима - Зачарованная величина
Первый в этом ряду тянущих тончайшую нить традиции — каноник из Боготы Домингес Камарго, который готов язык проглотить и взмахивает салфеткой, снимая капельку лакомой слюны:
…кондитер столь умело
изобразил пернатых, что по зале
при виде их салфетки запорхали.
Чтобы в гроты искусства склонились ветви природы, веселым приветом от Лопе де Веги вплывают капуста и баклажан. Немного радующей глаз зелени среди мясных блюд, которые золотит и преображает пламя:
Краски сада оттеня,
баклажан синеет грузный,
и сияет лист капустный,
как пергамен, друг огня.
Пышущий преизбытком золота кордованец дон Луис вносит еще одну диковину — оливки, которые добавляют к вторгшейся на столы природе свою двойную — полуприродную, полуискусственную — суть:
…здесь, белорунным отданный отарам{154},
цветущий луг вмиг обратился старым,
едва прикрыт истоптанной травою;
там из маслин жмут золото живое
и, вязы лозами обвив над садом,
Алкида убирают виноградом.
Но к стольким баклажанам, капусте и оливкам нужна, наверное, хоть капля масла, которое и несет в своей ангельской обсидиановой лампадке сестра Хуана, помогая природным веточкам и черенкам одолеть густое масляное море:
…немеркнущий огонь священных брашен{155},
что вовсе не угашен,
но лишь упитан тою чистой влагой,
которой плод минервиного древа{156},
тяжелым гнетом удручен в давильне,
сильней исходит, плача все бессильней.
Следом из монастырского затишья является со своей единственной известной нам поэмой фрай Пласидо де Агилар{157}, предлагая несравненный замороженный грейпфрут:
…желтеет грейпфрут, писанный Помоной
старик, чей вид, увы, малоприятен:
весь из наростов, ямин или пятен.
Как при вступлении в тему капусты и баклажана, здесь вновь возникает Лопе де Вега с одетыми в панцирь крабами, противостоящими вторжению огня всей своей белоснежной мягкостью и совершенством:
Не разом осушаемые створы
улитки, к рифу жмущейся упорно,
а задом пятящийся краб, который
слепит, как пламя солнца или горна.
Выказывая учтивость и тем самым признавая превосходство, мы вручаем пальму первенства Леопольдо Лугонесу{158}, ведущему родословную от золотого века барокко и убеждающему — барочный дух необходим искусству поныне.
И в честь того, что с нами — лучший друг,
несут румяный плод тончайшего искусства,
большую курицу, и, пламенный как чувства,
щекочет ноздри нам раззолоченный лук.
Опять посреди нас графин как довод веский,
и, комментируя утехи, кот
залез под стул и внятно подаёт
жеманный голос, клянчащий обрезки.
Но пора уже внести вино и открыть дорогу широкой волне барочных заимствований, начиная с сухих и тонких французских вин, этого эликсира изысканнейших частиц, привезенного к нам Альфонсо Рейесом{159} после одного из многих путешествий, за которые мы не устанем его благодарить:
С крутым султаном, с перевязью шитой —
огонь любви и громовой набат —
лансе обходит строй шато-лафита,
как маршал, принимающий парад.
Дабы положить конец лакомому соревнованию плодов, рожденных по разные стороны двух океанов, со своим наречием скругленных углов и точеных фризов вновь является «Арагонский аноним», чтобы подать стекленеющую влагу и серебристую мякоть груши, эту вкусовую ноту, сорванную смычком в бесподобном финале:
Из-под белеющего покрывала
весеннего цветенья
уж грушевая завязь проступала,
едва видна снаружи,
так молода и столь высокородна,
что мнилась первой фрейлиною груши.
Словно бы репетируя прообраз вознесения и заранее приучая к различиям уходящего в облака дыма, является неизъяснимый и непременный табак, принесенный на пир бесценным очевидцем, составляющим сегодня искомую и надежную славу нашей поэзии, Синтио Витьером:
…что за благословенье{160}
душистый мир безгрешного огня
открыл и стер своею краткой лаской?
Он входит в ночь, всплывая из забвенья,
и мной живет, расхитивший меня…
И вот, наконец, наградой издалека тому, кто терпеливо ждет, отдавшись во власть благородному затворничеству зерна, является кофе по-турецки, донесенный до нас не поэзией, а таинством формы одной из баховских кантат{161}, благородными и изящными тактами, сопровождающими кофепитие, этой неторопливой описью утреннего ритуала, которая могла бы вестись в восточном крыле барочной эпохи — китайской зале Шёнбруннского дворца{162} Марии Терезии Австрийской — или же в ее противоположном крыле — в блистающей эбеном и драгоценностями fumoir[29], подарке китайской императрицы мексиканской принцессе в Чапультепекском дворце{163}, столь дорогом нашей склонной к роскошным досугам латиноамериканской душе.
Но у этого барочного пира с его двумя рядами блюд на столе, скрепившем обе створки океанской петли{164}, есть еще одно измерение, которое ведет к nemine discrepante[30], в область сна, где достигает своей вершины и полноты поэтического языка эпохи сестра Хуана Инес де ла Крус. Впервые в истории кастильского наречия первенство принадлежит Америке. При Карле II{165}, в период, когда растет обратное влияние латиноамериканской культуры на испанскую, сестра Хуана — центральная фигура в поэзии. Ее вдохновенная, движимая волей к определенности борьба дает нам урок достаточно одной странички «Первого сновидения», чтобы на краю земли оказаться лицом к лицу с поэзией, не имеющей ничего общего с придворными любезностями, арками в честь вице-короля или иными сооружениями, воздвигнутыми и поднесенными в качестве приветствия и забавы его супруге, — это борьба незримая и героическая, подспудная, но составляющая самую сердцевину жизни. Хотя сестра Хуана признается, что написала «Первое сновидение», подражая Гонгоре, здесь перед нами скорее очаровательная скромность, нежели литературная истина. Мир ее поэмы — иной, далекий от празднеств чувственности, окружающих бракосочетания под полуденным солнцем, и от безмятежности пастушек и козопасов, резвящихся среди мудрых и бородатых коз. Она — полная противоположность поэме для пяти чувств: перед нами первое бегство от природы в ночь, тайный путь, связующий с внешним миром через подземные укромы. Намеки на Прозерпину и угрюмого наушника Аскалафа продиктованы и окружены иным, чем у Гонгоры, смыслом. Их источник — соперничество между склонностями поэта и наставлениями схоластиков. Даже поступь, бег поэмы напоминает tempo lento[31], так непохожее на vivace e maestoso[32] «Уединений». Она будто подражает медленному течению подземной реки, тогда как субстанция сна буравит и пробивает землю то здесь, то там. В некоторых стихотворениях из «Цирцеи» Лопе{166}, конечно, тоже чувствуется беглое чтение схоластиков, но для духа Лопе, обращенного вовне и коренящегося в Эросе, такие отзвуки — мимолетная рябь. У сестры Хуаны схоластика во плоти, неразрывная с поэмой. Когда на ее страницах встречаешь слова «влажный корень», термин схоластической медицины, то кажется, словно речь о наших родных лесах, зыблемых на материнском лоне ночи… Ее тьма уходит в глубины сознания, чтобы опереться на невыразимое, и запрещает даже путеводному свету следовать за ней, поощряя его, напротив, обрушиться, завалив спуск в глубины, даримые мраком.
Эти темы трактуются в «Первом сновидении» так же, как в ренессансной поэзии, а позднее — в «Сонетах к Орфею» Рильке или «Нарциссе» Валери. Перед нами — поверхностное знание мифологической канвы, простое ее представление или присутствие, углубляемое скрытыми личными ассоциациями, которые по мере развития поэмы сгущаются и тем самым все более вносят в нее тьму глубин. И если мы рискуем напомнить сюжет, то лишь затем, чтобы оправдать сестру Хуану. Поэма начинается бегством дневных зверей: они уступают место сумеркам и никталопам, открывая тайные тропы и трудные дороги сна. А завершается она наступлением дня, возвращающего краски и будящего чувства. Однако величие поэмы — не в ловкости или причудливости ее сюжетного хода, но в непрерывности развития единой темы, темы жизни и смерти, и результат этого развития — не чудеса и диковины, а степени определенности, градации бытия по мере приближения к знанию. Такое толкование сновиденного весьма разнится от манеры современного сюрреализма или немецких романтиков первой половины XIX века: главное в нем — не поиск иной реальности, иной, чудесной, причинности, а трактовка сна, с явственной отсылкой к Декарту{167}, как формы господства высшего разума. Организующим началом поэмы остается познание, пережитое во сне, но обращенное к непосредственной реальности. Между приходом ночи и наступлением поры, когда зенит расцветет всеми красками радуги, выстраивается целая шкала соподчинений — минералов, растений, животных, ангелов и Творца; работа эта, повторяем, развертывается в мире сознания и познания. Так, говоря о сне, сестра Хуана прибегает к мифологическому символу источника Аретусы{168}, который, обратясь подземной рекой, обегает как зловещую обитель Плутона, так и беспечальные поля Элизиума: она ни на миг не оставляет борьбы за проникновение в чудеса дневного мира, своего фаустианского порыва к знанию, ставшему реальностью, и к реальности, воплощенной в целое человека. Если исследования литературы когда-нибудь преодолеют этап каталогизации и научатся относиться к стихам как к живой плоти или достигнутой высоте, станет ясно, насколько схожи сокровища сна у сестры Хуаны и сокровища смерти у нашего современника Горостисы{169}. И сон и смерть в постижении поэта обретают животворную силу чудесного источника знания. В одной глубокой фразе Фосслер{170} отмечает у сестры Хуаны дилетантизм интуиции. Поэт целиком преисполнен озарения, глубины чудесного раскрываются, даря ему еще несовершенные слова, чтобы он придал им жизненную форму Это не дилетантизм старых культур, род домашнего рукоделия, но чистая страсть поклонника, подогреваемое ужасом любопытство, которое потом детским жестом измеряет собственное несоответствие предмету страсти и сокрушенно удаляется. Ясно одно: при всех недостатках техники, при том что сюжетная основа поэмы элементарна и размыта, ни до, ни после нее в нашей литературе, хоть как-то касавшейся сна, не было ни равного по размаху замысла, ни превосходящего по форме исполнения.