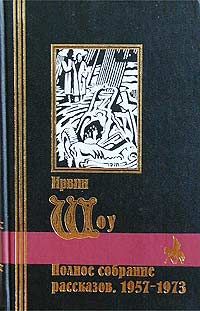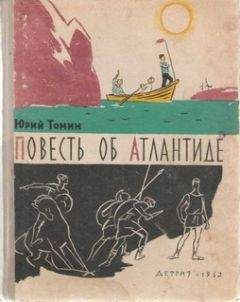Олег Красин - кукла в волнах
Сергей Терновой ожидал, что от него потребуют каких-то объяснений и потому, без лишних слов, выполнил мою просьбу. Он взял лист, в нескольких словах описал обстоятельства утраты злополучной зажигалки. Через дневального по автопарку я отправил его объяснительную записку Шахно, понимая, что на этом разбирательство не закончится.
Колесо событий набирало ход и продолжало ускоряться, причем не в пользу Сергея. Обстоятельства складывались таким образом, что если в ближайшее время не будет найден настоящий виновник, то им окажется зампотех. Вернее, будет назначен, поскольку так проще.
Возле ворот автопарка стоял и курил Вова Приходько.
— Замполит, приехал из Новолиманска? — спросил он, будто не видел меня лежащим до этого в кровати. Его глаза смеялись с обычным прищуром. — Чего такой хмурый? А, знаю, Лидку бросил, а с Илоной не получается. Тогда хоть утешься у «Пепси-колы». Ну что, вечером алё-малё? — Вова щелкнул пальцами себя по горлу, как обычно изображают выпивку.
— Да брось, ты? — беззлобно отреагировал я, — теперь не до веселья. С Терновым разбираемся…
— У, суки! — прапорщик сплюнул, — погоди, попадутся они мне. Я им за Серёгу яйца оторву и скажу, что так и было.
— А ты что, думаешь их много? — спросил я, подразумевая конечно, не яйца особистов, а «диверсантов».
— Чёрт их знает! Во всяком случае, для разборок с этими гадами возьму с собой десантуру — Андрюшку Гуторина. Уж думаю, вместе мы с ними разберемся. Я им устрою аллес махен пиздец цузамен!
— Да я тоже бы поучаствовал, — поддержал я его идею, — только беда в малом — их ещё найти надо.
— А вот тут, Михалыч, ты покумекай. Ты же не старший лейтенант, а старый. Голова у тебя большая, шестидесятый размер фуражки носишь, должен что-то придумать.
— Легко сказать! — отвечал я, уже на ходу, отправляясь в сторону аэродрома, благо до КДП было несколько сот метров.
Навстречу мне попалась наша машина — бортовой «Урал», которая везла официантку, кормившую обедом руководителя полетов на КДП. За бликующими на солнце стеклами мне абсолютно не было видно, кто сидел внутри. Когда машина, оставляя за собой плотный слой поднятой в воздух песочной пыли, почти поравнялась со мной, она внезапно остановилась. Дверца «Урала» открылась и на землю легко спрыгнула Илона.
— Привет, Витя! — она радостно улыбнулась, как улыбаются человеку, которого с нетерпением ждали, — как съездил?
— Вроде нормально! — я не стал её спрашивать про Волчатникова, оттого что почувствовал в душе какое-то смущение, внутреннее неудобство. Сам не знаю почему, ведь мы же были только друзьями.
Словно прочитав мои мысли, Илона сказала:
— Сергей Николаевич ко мне заходил несколько раз, но, знаешь, у нас ничего не было, правда…
— Да я тебе верю, — с каким-то непонятным для себя облегчением сказал я, — здесь всё зависит только от тебя. Ты же не давала никаких обещаний.
Илона, видимо была удовлетворена моей реакцией. Она взялась за ручку дверцы «Урала».
— Заходи сегодня вечером к нам в комнату, если будешь свободен.
— Хорошо! — кивнул я, и мы расстались.
«Что я делаю, — подумалось мне, — зачем морочу голову девушке и самому себе? Разве я её люблю, не сплю ночей, мечтаю о встрече? Совсем нет. Но почему же, мне стало так легко и хорошо, когда она сказала, что с Волчатниковым у неё ничего не было? Какое мне, в сущности, дело до их отношений?»
Надо было хорошенько разобраться в себе. Моя душа, словно захламленный чулан, нуждалась в генеральной уборке. Она требовала предельной ясности в отношениях, потому что без ясности невозможно сделать осознанный выбор, невозможно определить, что же главнее: любовь или дружба.
У КДП я встретил Волчатникова. Он выходил из дверей здания, одетый в лётную техничку, с черной папкой в руках.
— Виктор, здорово! Давно приехал? Уже обедал? — забросал комэска меня вопросами, — пойдем в столовую, пообедаем. По пути расскажешь.
— Да я не голоден, — отвечал я, едва успевая за размашистым шагом Волчатникова.
Нам встречались летчики и техники, отдававшие честь и проходившие мимо. Я торопливо, на ходу рассказывал ему о своей поездке в Новолиманск, о том, что мне срочно надо найти жену иначе моя карьера покатится под откос. Волчатников в этом месте с улыбкой взглянул на меня, но промолчал, не стал комментировать.
— Слушай, — сказал комэска, останавливаясь, — надо бы с тобой всё это обсудить подробно. Ты как вечером, свободен?
Я замялся, вспомнив об Илоне. Волчатников между тем, уловил моё колебание и секундное промедление и верно понял его причину.
— Собрался к Илоне? — спросил он, и словно облачко опустилось на его лицо.
— Я не знаю… не думал ещё… — неловко соврал я.
— Хорошо, надумаешь, приходи.
Волчатников резко повернулся и вошел в столовую. Я так устал, причем не физически, а эмоционально, что у меня не осталось сил анализировать наши с ним слова и поступки. Какое-то опустошение чувствовалось в душе, как будто кто-то открыл кран и всё, что наполняло смысл существования, вытекло наружу, как питьевая вода из прохудившейся бочки. Мне снова захотелось куда-то уехать, куда-то далеко-далеко, словно в этом было решение всех проблем. Если б можно было уехать от самого себя…
«А что, если вечером взять Илону, прийти к Волчатникову в гости, — подумал я, — будем сидеть втроём, пить коньяк, говорить ни о чём… Хороший будет вечерок! Сплошное разочарование. Примерно так бывает, когда из коробки достаешь мозаику, с трудом складываешь рисунок и вдруг, с огорчением видишь, что не все кусочки мозаики на месте. Часть из них утеряна кем-то, причем безвозвратно. Здесь тоже самое — если кусочки мозаики это мы, то нужных фрагментов не найти. Без них конструкция рассыпается, целое становится хаосом».
Солнце медленно заходило за край горизонта. Перистые облака заполнили небо, проплывая, словно белоснежные караваны на темно-голубом фоне. Я почувствовал, что воздух изменился. Он уже не нёс с собою запах отработанного керосина, нагретого металла самолетов, жженой резины. Пахнуло преддождевой свежестью и внезапно похолодало, словно природа невзначай напомнила о наступающей осени и идущей следом зиме.
Я закурил, загоняя тёплый дым в лёгкие, и для себя решил, что этим вечером никуда не пойду. Лягу в комнате на своей кровати и, под шум дождя буду читать какую-нибудь книгу. «Анненского верну комэске завтра, — думал я, — надо окончательно решиться на что-то».
Но на самом деле, я был не готов к этому. Выбор всегда трудное дело, особенно, если ты должен выбрать из того немного, что тебе действительно дорого. А как хотелось бы оставить все как есть. И почему жизнь заставляет нас жертвовать чем-то, зачем? Я не понимал этого.
Однако ситуация, к моему облегчению, разрешилась сама собой. Позвонила Илона и сказала будничным голосом, что вечером будет занята. Она с девчонками едет в Нижнюю Калитву, чтобы помыться в бане, вернется поздно. Она поинтересовалась, не обиделся ли я и, получив отрицательный ответ, успокоилась. Мы попрощались. После этого, не чувствуя никакой вины перед девушкой, я с лёгкой душой пошел к Волчатникову.
Глава 11
Вернувшийся накануне из отпуска солдат-армянин подарил мне бутылку армянского коньяка и небольшой кусок вяленого мяса — бастурмы. Отправляясь к Волчатникову, я прихватил все это с собой. У комэски на столе уже стояла бутылка азербайджанского коньяка «Башалы», недавно начатая. Рядом лежали на тарелке небрежно нарезанные дольки лимона без сахара — в столовой сахар был кусками, и крошить его на лимон было неудобно. Я поставил свой презент рядом, сел на пустую койку.
Поначалу мы только поднимали рюмки и перед тем как выпить, чокались без тостов, словно торопились быстрее напиться и уйти от реальности. Молчали, ни о чем не говорили. Потом я подумал, что если и нужно с чего-то начинать наш разговор, то начинать надо с главного. А главным в данный момент были отношения Волчатникова с Илоной.
— Знаешь, Витя, — сказал он, не глядя мне в глаза, — я, наверное, в неё влюбился, причем влюбился классически. Она мне снится по ночам, всё время думаю: что она сделала, что сказала, как отреагировала на мои слова? У тебя так бывало?
— Нет, — честно признался я, покачав головой, и припоминая все свои романы в прошлом.
— Я даже стихи стал сочинять, — продолжал говорить дальше Волчатников, — как это обычно делают влюбленные.
— Что-нибудь прочитаете?
— Одно четверостишие…только не смейся.
— Да нет, я же понимаю что такое чувства, над ними не смеются.
Волчатников уставился на чистую, покрытую побелкой стену, словно пытаясь увидеть на ней невидимые для меня строфы, потом прочитал чуть сипловатым голосом:
На тебя я украдкой смотрю,
И от глаз не могу оторваться,
Словно вечер влюбился в зарю,
Но не в силах ей в этом признаться…
— Красиво, — сказал я, не кривя душой, — мне нравится!