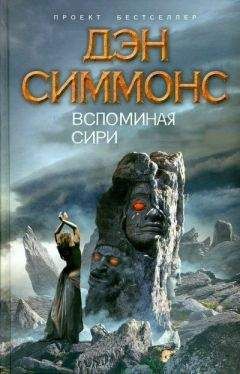Сири Хустведт - Печали американца
— Не поддерживаю. Она сказала мне это при нашей последней встрече. И вообще, почему вы меня перебиваете? Я спросила вас, можете ли вы себе это представить, а вы меня перебили!
Ее ярость была для меня как пощечина.
— Ваша мама искренне надеется на то, что вы все забудете и простите ее, это я себе очень хорошо представляю. Интересно другое: вы не виделись с матерью почти год, но говорите о ней с такой злостью, словно поссорились только что.
Я заметил, что руки мисс Л. сжались в кулаки. В течение нескольких секунд она молчала, потом процедила:
— Вы имеете мне сообщить еще что-нибудь, мистер Всезнайка?
— Я не все знаю про вас, поэтому не знаю, что вам сообщить.
— Не знаете — учитесь. Если я принуждена разговаривать с профаном, то чего ради я вообще сюда хожу?
— Может быть, ради этой самой злости? Цепляясь за меня, как за ее объект, вы тем самым цепляетесь за отношения между собой и матерью. Раз есть хотя бы злость, есть надежда. Надежда на перемены.
Она сидела, разглядывая свои коленки. Кулаки разжались, губы вздрагивали.
— Надежда? — пролепетала она. — Пожалуй, вы правы. Злость мне необходима. Она мне требуется, как наркотик. Если ее нет, я словно замороженная.
Я вдруг представил себе, как она стоит, продрогшая, на пороге дома, перед запертой наглухо дверью, а вокруг бушует метель. При этой мысли мне стало нестерпимо больно, физически больно.
Мы поговорили о том, каково это — чувствовать себя «замороженной», о том, какой она мне привиделась, застывающей на крыльце под снегом, об ощущении пустоты, оцепенения, нереальности, о ее мстительных фантазиях, и мало-помалу она успокоилась. Я казался себе шкипером, который сквозь шторм привел судно в гавань.
Когда прием подошел к концу, она, уже выходя из кабинета, обернулась и сказала:
— Она пыталась меня убить. И я не могу забыть об этом, меня это не отпускает. Расскажу в следующий раз.
После занятий по органической химии я иду через двор колледжа Мартина Лютера, погруженный в мысли о том, как мало времени до конца семестра и как много надо успеть сделать. Стоит поздняя осень, на улице холодина. Память рисует сухие бурые листья, которые крутит ветер, и летящие в лицо пригоршни снежной крупы, мелкой и острой. Я поднимаю глаза и вижу вдалеке идущего мне навстречу отца. Я улыбаюсь ему. Может, поднимаю руку, машу ею? Не уверен. Отец смотрит мне в лицо, но не узнает меня, словно видит впервые. Он идет своей дорогой. Я иду своей дорогой. Почему же я его не останавливаю? Почему не бегу за ним, не догоняю, не хлопаю по плечу? Пап, это же я, Эрик! Мы тут с тобой как-то потерялись. Ты сейчас куда, на лекцию? Я провожу, ладно? Я не говорю ничего из-за запрета, написанного на этом замкнутом лице, похожем на дверь, которую лучше оставить запертой. Даже сейчас мысль о том, чтобы попробовать ее отомкнуть, отзывается в памяти былым страхом. Мне приходит на ум сказанное мисс Л. слово: «замороженная». Я не впервые возвращаюсь мыслями к этой нашей с отцом встрече, правда, раньше все было далеко не столь эмоционально. Я, как сейчас, вижу пешеходную дорожку, вспоминаю свое недоумение и растерянность, но прежде у меня было совсем иное объяснение: отец — рассеянный ученый, профессор. Как же я мог так ошибаться?! Меня охватило отчаяние. Я сидел, положив локти на стол, обхватив голову руками. Господи, какой ужас! Длилось это почти минуту, но прежде чем подняться, я ощутил, что стынущая на морозе мисс Л. — это я сам.
По пути домой с работы я отважно позвонил в дверь Миранды. Она открыла, мы поздоровались. На ней были узкие, заляпанные краской джинсы и белая обтягивающая футболка, волосы убраны, голова повязана синим платком.
Стоя в дверях, она выжидательно на меня смотрела.
Я тщательно обдумал свою речь.
— В следующую пятницу моя сестра устраивает ужин в честь нашей мамы. И мне бы хотелось пригласить вас. Мама сейчас гостит в Нью-Йорке, она приехала на прошлой…
Слова замерли у меня на губах, потому что Миранда чуть опустила голову и принялась разглядывать свои руки.
Я решил не сдаваться:
— Вы ничего не подумайте, это самый обычный ужин, просто мне не хочется идти одному.
— Боюсь, я не смогу, у меня дела.
Я не мог скрыть своего разочарования, по-моему, даже зубами скрипнул, но продолжал настаивать на своем:
— Я прошу вас об одолжении.
Эти слова вырвались у меня помимо моей воли.
Она посмотрела мне в глаза и усмехнулась:
— Хорошо. Только придется поискать, на кого оставить Эгги, вы же не сможете с ней посидеть.
Меня охватило упоение от победы, но ему на смену тут же пришли смущение и чувство вины. Я прибегнул к запрещенному приему, и мы оба это понимали. Так я и стоял несколько секунд, глядя в пол, пока за спиной у Миранды не раздался голосок Эглантины:
— Трам-пам-пам, парам-пам-пам, тарам-парим-парам, пр-р-р-рям!
Весело горланя, она скакала по прихожей, размахивая листком бумаги, потом подбежала ближе и гордо протянула его мне.
— Вот.
Я мельком бросил взгляд на Миранду и с облегчением заметил, что на ее лице не было и тени раздражения, она весело улыбалась.
Рисунок был сделан углем, поэтому пестрел черными разводами и пятнами. Я сумел разобрать пять или шесть прямоугольников и несколько крестов. Кроме того, в самом низу были изображены три лежащие фигуры, которые, казалось, спят. Когда я попросил Эгги разъяснить мне, что же здесь нарисовано, она села на пол, поджав под себя ножки, и поманила меня, чтобы я последовал ее примеру.
— Это кто умер. Их на кладбище схоронили. Вот это моя прабабушка, а это мой прадедушка. Они по правде умерли.
Эгги безуспешно пыталась сложить свои гуттаперчевые губы в скорбную гримасу. Для пущей убедительности она пару раз всхлипнула и принялась тереть один глаз кулаком, выжимая слезы.
— А вот это кто такой большой? — спросил я, обводя пальцем контуры длинного тела, распростертого лицом вниз. — Ох, сколько волос!
Теперь Эгги воззрилась на меня распахнутыми глазами:
— Это же королева Нанни![26] Она может встать и начать сражаться, прям как живая. Потому что она умеет колдовать.
Миранда смотрела на дочь с улыбкой, потом повернулась ко мне:
— Нанни была среди маронов очень значительной фигурой, в полном смысле королевой. Это ведь персонаж одновременно исторический и мифологический, причем одно от другого отделить невозможно. Слыла колдуньей, знала магию оби,[27] поднимала народ на борьбу с англичанами, потом собственноручно подписала с ними договор о признании независимости маронских территорий. У нас на Ямайке это народная героиня номер один. Эгги много раз слышала это имя, ведь история ямайских маронов — главное хобби моего отца.
Пока Эгги была поглощена игрой в королеву Нанни, по ходу дела сперва умирая, а потом громоподобно воскрешая себя из мертвых, Миранда отвела меня в сторону:
— Эрик, мне надо вам кое-что сказать.
По-моему, она впервые назвала меня по имени, и я почувствовал нечто вроде трепета.
— Посланий больше нет, — тихо произнесла Миранда.
Когда я ответил, что это к лучшему, она понизила голос еще больше:
— Возможно, но я не могу с ним связаться. Я все обдумала, решила, что нам надо прийти к какому-то соглашению ради Эгги, а он взял и пропал. Я звоню ему домой и на мобильный, оставляю сообщения, но ответа нет, он не перезвонил ни разу.
Я предложил набраться терпения и подождать немного. Перед тем как откланяться, я взял Миранду за руку и вдруг вспомнил про окровавленный палец, который бинтовал той ночью.
— Вы ведь мне тогда так и не рассказали, где порезались, — сказал я, понимая, что судьба дает мне шанс подержать ее руку в своей еще немного.
На пальце остался маленький шрам.
Миранда не отнимала руки, и я почувствовал, как между нами ходят эротические волны. Не желая выпускать ее пальцы, я сжал их еще сильнее и потянул на себя, чтобы прижать к груди. Миранда, не ожидавшая такой прыти, от моего рывка ахнула, едва устояв на ногах, и звонко расхохоталась. От смущения я был готов провалиться сквозь землю и тут же отпустил руку.
Она не сводила с меня ласкового взгляда, продолжая еле заметно улыбаться. Потом улыбку словно стерли, и она медленно произнесла:
— Джефф… схватил нож… и стал угрожать, что вскроет вены, если я не позволю ему видеться с дочерью. Нож я отобрала и случайно порезалась.
Каждый новый рассказ про Джеффа Лейна делал его образ все отчетливее, но этот дикий случай с истерикой и шантажом вызвал мое самое серьезное беспокойство. Мне слишком хорошо известно, что большинство, казалось бы, вменяемых и психически здоровых людей запросто могут «сорваться». При этом слове я почему-то всегда представляю себе сорвавшееся с рукоятки лезвие топора, со свистом рассекающее воздух. Моя бывшая супруга однажды в приступе ярости швырнула мне в лицо зубную щетку. Вполне, казалось бы, потешная ситуация, если бы не сила, с которой она запустила в меня этим изящным предметом личной гигиены. Джефф Лейн не гонялся за своей бывшей возлюбленной с ножом, и все же что-то подсказывало мне, что он далеко не столь безопасен и уравновешен, как хотелось бы думать Миранде.