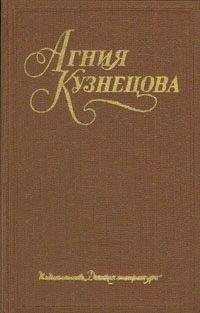Николай Дежнев - Принцип неопределенности
— Это что, — шепелявил подьячий и, по-видимому, уже давно, — я вот однажды пил вино двойное боярское, так чарку выпьешь и враз с катушек долой!..
Серпухин понимающе кивнул, ему ли было не знать. В питейной избе они выбрали самое темное место, чадящий фитилек коптилки Шепетуха предусмотрительно отодвинул на центр стола. От выпитого Мокея прошиб пот, и ему сразу же полегчало. Вальяжно откинувшись на высокую спинку лавки, он словно между делом поинтересовался:
— Ну, рассказывай, как тут у вас жизнь?..
На этот сакраментальный вопрос, который задают друг другу малознакомые, вынужденные убивать вместе время люди, последовал столь же содержательный ответ:
— Терпимо… — Подьячий оглянулся на пробиравшегося к ним между столами полового и не без усмешки добавил: — Живем…
— А этот, который отец народов, губитель рода человеческого, не мешает?
Шепетуха посмотрел на своего нового товарища с прищуром. Сразу отвечать не стал, а выждал, когда подпоясанный кушаком малый поставит перед ними тарелку с пирогами и отойдет от стола.
— А чо ему мешать-то? Мы ж на Руси живем: власть сама по себе, мы сами по себе! До Бога высоко, до царя далеко, вот и вертишься как вошь на веретене…
Поймавший пьяный кураж Мокей отстать от своего собутыльника не пожелал:
— Слышь, Шепетуха, вот ты подьячий — ты же, гад, наверняка взятки берешь! И столоначальники твои, они тоже подношениями не брезгуют…
Сидевший насупротив Серпухина мужичонка на «гада» не обиделся, а лишь неопределенно пожевал толстыми губами:
— Тебе-то что с того?
— А так, — пожал плечами Мокей, — интересуюсь знать…
Шепетуха ответил не сразу, сначала впился зубами в горячую упругость пирога, запил его большим глотком из чарки.
— Когда добро людям делаешь, почему бы и не взять, особливо ежели подношение от чистого сердца! Ты им поможешь, они тебе, и все живут в довольстве…
— Именно так я и думал! — засмеялся Серпухин. — Все дело в генетике, в крови у нас засел зловредный ген Шепетухи…
Подьячий бросил на своего приятеля настороженный взгляд.
— Слова басурманские говоришь, порчу навести хочешь… — и вдруг, как-то непонятно оживившись, предложил: — Слышь, Мокей, давай выпьем за тебя! Хороший ты мужик, — наполнил до краев чарку Серпухина, — нет, ты до дна пей, до дна!
Серпухин выпил, утер рот рукавом рубахи:
— Не страшно брать-то? А что, коли донесут!..
Шепетуха водку лишь пригубил, заметил философски:
— Страшно не страшно, всем один конец! — понизил голос до шепота. — Мы-то что с тобой, мы люди сермяжные, лапотники, тут и не такие на плаху голову ложат. Про князя Владимира Андреича слыхал? Все под топор пошли, всем родом на жизнь государеву умышляли… по крайней мере, так сказывают. И таких тыщи… — Подьячий воровато огляделся по сторонам. — Воевода Никита Козаринов в монастырь, что на Оке, сбег, схиму принял — не помогло, и там достали, окаянные! Посадили по царевой воле на бочку с порохом и подожгли, мол, схимники все одно что ангелы, им по небу летать надобно…
В кабаке было смрадно и душно, стоял мощный запах перегара, грязных тел и волглой одежды. Шепетуха утер разгоряченное лицо пятерней, махнул с горечью рукой, мол, однова живем, и разлил водку по чаркам:
— Колычевы! Все до одного головы сложили. Шаховские… Да что считать-то! — выпил с маху, отправил следом в рот кусок пирога. — Ас Новгородом что, ирод, сотворил?.. Бродяга волынский, Петром кличут, донес, будто жители его к польскому королю переметнуться замышляют, вот Иван Василич и осерчал. Всех в Новгороде вырезал, Волхов от трупов аж вздулся. Иноков монастырских лишали жизни палицами, старца Филиппа Малюта Скуратов прямо в келье удушил… А все оттого, что Петра ентого, доносчика, горожане взгрели за худые дела по первое число… — Подьячий криво усмехнулся. — А так хорошо живем, Господь милует!
Серпухин заглянув в свою чарку, скривился: водка сильно отдавала сивухой. Проступившая на его губах улыбка стала блаженной, пьяненькой:
— Вырезал он Новгород, ну а вы что?..
— Кто это «мы»? — не понял Шепетуха. Похоже было, что и он уже порядком нагрузился.
— Ну, люди, народ… — пожал плечами Мокей, как если бы удивлялся непонятливости своего собеседника. — Ведь, считай, каждому про Ивановы зверства известно…
Подьячий провел ладонью по жидкой бороденке, забрал ее в кулак:
— А нам-то что? Нам — ничего, не нас же железом жгет и пыткою пытает…
— Во, в том-то, брат, и беда! — кивнул в подтверждение собственных мыслей Мокей.
От выпитого и висевшего в воздухе смрада четкость картинки перед его глазами утратилась. Чтобы разглядеть сидевшего напротив подьячего, Серпухину приходилось щуриться. Навалившись на стол грудью, Мокей поманил его пальцем:
— Слышь, Шепетуха!..
— Ась? Ты меня, что ли? — икнул тот.
— Я все изменю! С моим образованием и знанием жизни, гадом буду, а в ближние бояре выбьюсь. Бизнес развернем с тобой с прибалтами, хоть они нас и не любят и никогда не полюбят, наладим обмен товарами с Англией, станем виски у них брать, табачок. Ты пробовал когда-нибудь виски?.. Попробуешь, вещь стоящая! А там… — Серпухин загадочно подмигнул и понизил голос до свистящего шепота: — Точно знаю, Грозный долго не протянет! Надо только не пропустить момент и вовремя подсуетиться. Димку, сына его малолетнего — тут Годунов прав, — придется в интересах государства замочить, но с проходимцами Мнишеками, — помотал он перед носом подьячего пальцем, — никакой смуты я не потерплю! И почему, спрашивается, по какому такому праву, — Мокей хрястнул по столу кулаком, — сопляка Мишку и вдруг на царство! Чем род Серпухиных хуже? Уж по крайней мере столько, сколько наломали дров Романовы, мы не допустим, это я тебе, Шепетуха, твердо обещаю! Главное, держись за меня, не пропадешь…
Подьячий держаться обещал.
То ли водка оказалась слишком крепкой, то ли устал Мокей от выпавших на его долю злоключений, только грустно ему вдруг стало, грустно и одиноко. А может, увидел он из далекого далека те триста лет, что мыкаться России под не пришедшей еще к власти династией, увидел — ив сердце его поселилась печаль. «Несчастные мы люди, — думал Мокей, оглядывая мутным взглядом зачумленный кабак, — несчастная страна! Почему все так, почему?..»
Серпухин вытер рукавом рубахи набежавшую слезу. Шепетуха тем временем допивал с глумливым видом содержимое своей чарки, бормотал:
— Это ж надо такое придумать: «народ»! Летошным годом, в июне дело было, вывели в Китай-городе на площадь двести душ и кого на глазах толпы зарубили, кого повесили, а кого и заживо сварили. А он сидел на коне, смотрел на согнанных силой людишек и зычно спрашивал: «Народ! Ответствуй, прав ли суд мой?» И все кричали: «Да погибнут изменники! Живи много лет, государь великий!» И я кричал вместе со всеми, — хмыкнул подьячий. — Доведись тебе, кричал бы и ты…
Шепетуха замолчал, и на Серпухина разом навалился шум голосов гулявших за соседними столами мужиков. Кто-то вскакивал с лавок и с бессмысленными от выпитого глазами хватал соседа за грудки, кто-то горланил песню, кто-то тут же блевал. Мокей смотрел на них, и губы его кривила жалостливая улыбочка. «Вот уж правду говорят: однова живем!» — думал он, но думать не получалось, поскольку сначала мешались в кучу слова, а потом и мысли.
Поднявшийся на неверные ноги Шепетуха глядел на Серпухина сверху вниз:
— Зря я с тобой связался, — мотнул он от избытка чувств ушастой головой, — думал, купец аглицкий, за спасение отблагодаришь, а ты фуфло! Боярином он будет, слыхали!..
«Какое знакомое слово: „фуфло“, — страшно удивился Серпухин, — не знаем мы, все-таки, корней великого русского языка!» Пошатываясь, встал с лавки:
— Пойдем, Шепетуха, спать! Ты, главное, верь, я в люди выбьюсь и тебя выведу…
Из кабака вышли обнявшись и поддерживая друг друга. Глядевший им вслед целовальник вертел с сомнением в пальцах полученную на чай десятикопеечную монету, прикидывал, когда сподручнее сбегать донести.
Но Шепетуха, тот еще жучило, не дал себя обскакать. Как ни был пьян, а успел первым, а заодно уж настучал и на целовальника, что принимает фальшивые деньги. Сам же в свой дом стрельцов и привел. Плакал от жалости, но куда идти, показывал, и баба его очень Серпухина жалела. Стояла, глядя, как того увозят на телеге, и утирала слезы, так сильно сострадала. Но портмоне на всякий случай прибрала и карманы Мокея проверила, потому как зачем теперь страдальцу деньги…
А Шепетуха все забегал вперед телеги и кричал, что сразу заподозрил неладное, потому-то литовского шпиона допьяна и напоил. На свои, между прочим, кровные, чтоб не сбег тот, как собака Курбский, к Сигизмунду.
Очень Шепетуха радовался, просто из кожи лез вон, так старался…
9
Апостол взошел на кафедру и оглядел собравшихся, его встретила благоговейная тишина. Слушатели факультета Светлых сил смотрели на старика с чувством плохо скрываемого обожания. Потребность в создании в структуре Небесной канцелярии Академии знания с двумя основными факультетами возникла еще на заре человеческой истории, но в последние годы надобность в ее выпускниках значительно увеличилась. Связано это было с тем, что на Земле резко ускорилось время, а значит, и все зависящие от него процессы, включая действие всеобщего закона причины и следствия, известного на Востоке под именем кармы. Раньше, в мохнатые годы двадцатого и предыдущих столетий, за длинным радостным детством тянулась полноразмерная, переходящая в зрелость юность, в то время как жизнь заканчивалась утомительно долгой старостью. Теперь же, погоняемое жаждой перемен и наслаждений, время неслось вперед с умопомрачительной скоростью закусившего удила иноходца. Жизнь пролетала как фанера над Парижем и так же осмысленно. Не успевал человек толком оглядеться, куда на этот раз занесла его нелегкая, как уже оканчивал школу и тут же, словно новую колоду карт, распечатывал третий десяток. В возрасте Христа он все еще считал себя ребенком, у которого все впереди, а главное — прелести и удовольствия жизни, но тут-то… Тут-то незаметно, словно диверсант с гранатой, подползал сороковник, а за ним, вопреки всякой логике, ему преподносили адрес с выгравированной на нем золотом цифрой 50! «Как же так? — совершенно опешив, спрашивал себя человек, — это ж хрен знает что такое! Я буду жаловаться!» Но из зазеркалья, глаза в глаза, на него, брюзгливо кривясь, уже смотрел потрепанного вида мужик, во взгляде которого сквозили тоска и безразличие к жизни. «Но позвольте, — пожимало отражение плечами, — разве так бывает? Разве может так быть?.. — И само же себе отвечало: — Может, еще как может!» О том же свидетельствовали и слова, и фальшивые улыбки тех, кто провожал старика на заслуженный отдых. Хотя — к чему без надобности врать! — проводы на пенсию случались теперь все реже и реже, а все благодаря укоротившейся длительности жизни, избавляющей человека от ненужного стресса и неискренних речей.