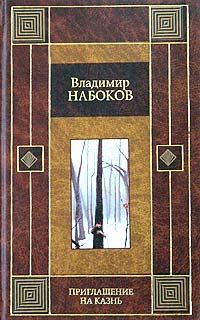Дидье Ковелер - Запредельная жизнь
— Алло, это папа. Ты дома? Сейчас суббота, половина десятого. Передай Фабьене, что ее рыба — просто объедение. Я завезу ей блюдо завтра в магазин. Какая погода в Эксе? Наверное, дождь… у нас тут пошел снег, но не лежит, а сразу тает. Перезвони мне. Целую, пока.
Отец рухнул локтями на стол, закрыл лицо ладонями и трясет головой. Прости, папа, я не хотел… «Бип!»
— Жак, перезвони мне. Я получил документы из налогового управления, эти кретины снова оформили все на мое имя. У меня лопнуло терпение, я сочиняю им письмо, вот послушай: «Месье, позвольте напомнить вам, что, согласно акту, составленному 15 апреля 1981 года в нотариальной конторе мэтра Сонна, расположенной по адресу: Париж, ул. Президента Вильсона, 45, скобяной магазин Лормо был…» Постой, тут у меня на стройке опять что-то взрывают. Перезвони мне. Сейчас четверть одиннадцатого. Только поскорее — я хочу отправить письмо сегодня до обеда.
И так еще двадцать минут. В последнее время отец быстро сдавал, и я предчувствовал, что он долго не протянет… Поэтому я не стирал его сообщения на автоответчике, а переписывал их на эту кассету… Суеверно боялся накликать беду. И вообще уничтожать голос, который мне, возможно, уже не так долго осталось слышать, представлялось мне кощунством.
— Ты дома? Это папа. Ты не забыл про генератор для «форда»? Привет Фабьене.
Отец успокоился, он ровно дышал и обреченно слушал свой голос с обозначенными тройным «бипом» интервалами — голос, перебирающий житейские мелочи, фрагменты текста и подтекста, сплетающиеся в живую ткань повседневности. Нетерпеливые звонки-напоминания; звонки с замаскированным призывом на помощь; звонки в минуты одиночества, когда он даже не притворялся, что хочет сказать что-то конкретное. Обычно это бывало часов в пять вечера — он набирал мой номер, просто чтобы услышать мой голос, благодарящий за оставленное сообщение. В таких случаях он говорил: «Это был папа», — и прошедшее время заставляло меня немедленно хватать трубку и заводить с ним разговор о погоде, ни о чем и о чем угодно, лишь бы забить чем-нибудь шесть отделяющих нас друг от друга километров, которые зияли в каждой паузе.
«Бип!»
— Это папа. Понедельник, утро. Умер Миттеран.
Это было последнее сообщение. Дальше — вхолостую шелестит пустая пленка. Отец обмяк, свесив руки, уставившись в одну точку. Жгучий стыд тисками сжимает мое сознание — наверное, так плачут мертвые.
Папа перематывает пленку назад. И, к моему удивлению, запускает ее снова, выборочно прослушивает некоторые места и лицо его медленно расцветает улыбкой. На нем отражается облегчение, радость, чуть ли не благодарность и гордость. Ничего не понимаю… Или… вот оно что! Он смотрит на полку маминых кассет. И, должно быть, думает, что я пошел по его стопам. То есть тоже складывал день за днем в архив. В таком случае пленка содержит не свидетельство его ничтожности, а законсервированную в словесном сиропе отеческую любовь. Такой поворот — для меня полная неожиданность. Сам того не желая, я умиротворил папину душу, примирил его с самим собой. Он растроганно улыбается и глотает сбегающие из глаз в уголки рта слезы. Подозреваю, что он сейчас вытащит кассету и положит ее на полку, в дополнение к пятидесятичасовому обозрению его супружеского счастья.
Не останавливая записи, он встает и идет в другую комнату — ледяной чулан, ведущий в гараж, где под синим холщовым чехлом одиноко стоит мамин «форд-ферлейн-скайлайнер» 1957 года выпуска. Отец широким жестом, словно откидывая покрывало с постели, сдергивает чехол. На свет божий показывается громоздкая бело-розовая колымага. Старая американка блестит всеми своими протираемыми каждое воскресенье хромированными ручками и зеркалами. Под открытое небо она последний раз выезжала в день моей свадьбы. Что-то в ее механике тогда в очередной раз не сработало и откидной верх застыл под проливным дождем в вертикальном положении.
Папа бережно и нежно открывает дверцу, садится за руль, устраивается поудобнее и кладет руку ладонью вверх на переключатель скоростей… точно так же, как в то далекое лето, когда я успешно сдал экзамены на бакалавра и мы с ним отправлялись покататься вдоль озера и поохотиться на девушек. Заметив парочку «голосующих» подружек, я хлопал отца по ладони. Девчонки «клевали» на роскошный автомобиль, где все, от сидений до крыши, включая ветровики, радиоантенну, дверцу бардачка и вмонтированный в подлокотник охладитель для кока-колы, было электрифицировано (все, кроме «дворников» — эти были устроены каким-то допотопным образом и работали только на малом ходу или на месте и только когда не шел дождь), и охотно садились к нам. Ввиду упомянутых технических особенностей машины, наши донжуанские успехи впрямую зависели от метеорологических условий.
В те времена папа походил на Джона Уэйна, я же был заурядным прыщавым подростком, и ему стоило немалого труда сделать так, чтобы мне досталась курочка посимпатичнее.
Так он и заснул — раскрытая рука ждет моего прикосновения, доносящийся из кухни голос диктует покупки. Мой отец…
* * *Когда-то в этом кирпично-бревенчатом домике был пост диспетчера ныне не существующей сортировочной станции. В шестидесятые годы папа купил его на торгах для Альфонса, всегда питавшего слабость к железной дороге. Два окна этого «шале на стрелке», как старый чудак именовал свое жилище, были круглый год украшены цветами. Поздней осенью Альфонс заменял горшки с живой геранью точно такими же с искусственной, чтобы обеспечить постоянство декораций проезжающим пассажирам.
Все свободное от скобяной торговли время Альфонс проводит у этих своих окошек: притормаживающим курьерским поездам машет рукой, проносящимся не замедляя хода сверхскоростным смотрит вслед. Вид уходящих в обе стороны до самого горизонта рельсов и ржавых заброшенных запасных путей будит в нем поэтические переживания, которые он силится облечь в должную форму. Но каждый раз эти усилия идут прахом, когда грохот вагонов возвращает его к грубой реальности.
Порой в воскресенье он застывает над мойкой среди кухонных испарений, напоминающих о стародавних паровозах, и, устремив взор на рельсы, часами ждет вдохновения, чтобы отлить в рифмованные строчки «Железнодорожную оду» — гимн глади полотна и лабиринту поворотов, что трепещет в нем, как готовое родиться на свет дитя. Первая строчка уже готова, она сложена 18 июля 1964 года, и Альфонс повторяет ее словно приманивая на нее другие александрийские стихи, которые должны слететься, подобно стае птиц: «О рельсы без конца, что в Эксе сведены…» Но что сказать вслед за этим обращением, он никак не придумает, а напрашивающиеся сами собой варианты (например: «Как нити макарон в тарелке всей страны») отметает и потому вхолостую жует макароны под молчание упрямой музы. Не так просто заменить любовь к прекрасной чахоточной деве созерцанием участка сети национальных железных дорог.
— У тебя тут ничего не изменилось, — сказала Брижит.
— А зачем мне что-нибудь менять? — подхватил Альфонс, внося на ночь в дом горшки с фальшивой геранью. — Они хотели поставить мне телефон, но я сказал — спасибо, не надо. У меня и так забот хватает — все стены растрескались из-за этих сверхскоростных, будь они неладны. Тебе подушку или валик? Маленькой ты любила валик, но девичьи вкусы — дело такое… Вот уж что все время меняется!
Брижит оглядела крохотную кухоньку — кирпичный кубик. Альфонс уже раскладывал на крашеном цементном полу походную кровать, уступая гостье комнату. Но Брижит взяла кожанку и всунула руки в рукава:
— Послушай, Альфонс… Я, пожалуй, все-таки поеду…
— Не выдумывай. Я тебе малость задал перцу за то, что ты наговорила гадостей о моем Жаке, но все уже забыто. Мне будет приятно, если ты останешься и будешь спать вот тут, у меня над головой, да-да, ужасно приятно. Не скажу почему — секрет, но это связано с Жаком. Представь себе, твой братец был парень не промах — вот, кстати говоря, еще одно очко в его пользу. У него была своя жизнь. А больше ничего не скажу — и не проси.
Воюя со скрипучими пружинами старой складной кровати, Альфонс краешком глаза посматривает на Брижит — только и ждет, что она начнет его расспрашивать. Но Брижит не слушает. Она думает о своем и вот-вот уйдет. И тогда Альфонс подзадоривает себя сам.
— Что бы ты сказала, — хитро говорит он, — если бы я тебе сообщил — понимаешь, если бы! — что у Жака была любовница?
— Сказала бы «браво», но к чему фантазировать!
Альфонс нерешительно морщит лоб, несколько раз открывает рот. Его так и подмывает рассказать Брижит о моей весенней вылазке. В тот раз я сказал дома, что еду на сверхскоростном в Париж на ярмарку посмотреть новинки и переговорить с поставщиками, а сам провел три дня с Наилой в постели Альфонса. Три дня и три ночи, наполненные исступленными ласками. Я вышел шатаясь, но не насытясь, и вложил весь оставшийся пыл в рассказ о последних моделях американских косилок с дистанционным управлением — такого энтузиазма от меня не ждали. Альфонс же то и дело говорил Фабьене с притворным вздохом: «Эти суперэкспрессы жутко утомляют!» — оправдывая мои синяки под глазами.