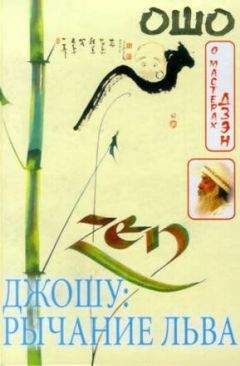Александр Гончар - Тронка
— Ты не ошибся.
— Сейчас в твоей душе — брожение лирических положительных зарядов… Не так ли?
— Угадал.
— И звездный эфир по ночам слушает твою наивную песню любви?
— Отстань, — сказал Виталий почти сердито, почувствовав в этом намек на его вчерашнее вечернее обращение к Тоне.
Мамайчук, хохотнув, продекламировал:
— «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви!..» Откуда это?
— Из «Песни Песней», — подсказал Сашко.
— «Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня… Черна я, но красива, как шатры Кидарские, как завесы Соломоновы…» А это?
— И это оттуда, — скрыл улыбку Виталий.
— Верно, юноша! Итак, ты вступил уже в пору молочно-восковой спелости… Родная школа вскоре вытолкнет тебя в белый свет с аттестатом зрелости… После нее куда, если не секрет?..
— Видно будет.
— При поступлении в институт теперь, как известно, требуется трудовой стаж… Но не думаю, что ты, как последний плебей, будешь многотерпеливо добывать сей стаж. К счастью, у тебя есть реальная возможность сократить свои мытарства.
— Что ты имеешь в виду? — нахмурился Виталий.
— Ты не хмурься… Ты смейся от счастья! Дай мне такую мамашу, что и депутатка, что и в области как у себя дома, не видать бы вам этого Мамайчука здесь!
Сашко посмотрел на него из-под растрепанного чуба.
— Плохо же ты знаешь его мамашу.
— Что? — уставился на радиста Мамайчук. — Я за нее голосовал! Голос за нее отдал, и при этом искренне. Заступница сирых! Борец за мечту. Все это так. Но ведь она же еще и мать! А ты, — он посмотрел на Виталика, — любимый маменькин сынок.
— Я не маменькин.
— А чей же?
— Я сын своей матери.
— Сути это не меняет. Ты, согласно законам природы, самое дорогое для нее существо, и тебе должно быть ясно, что из этого вытекает…
— Быть может, объяснишь? — скривился в недоброй улыбке Виталий.
— Без нее ты, хлопче, нуль во вселенной. Понял? Поверь моему горькому опыту. Итак, беги, падай перед нею на четыре кости, умоляй. Иначе не видать тебе не только что кораблестроительного, но и зачуханного какого-нибудь техникума… А так будет совсем по-иному: она едет в город. Уверенно стучит в дверь к товарищу ректору. Товарищ ректор весь внимание к товарищу Рясной. Выслушивает, и, пока течет беседа, в списке против твоего имени появляется этакая маленькая-маленькая, как маково зерно, точечка… Будто муха наследила. И все! Твоя судьба этой точечкой решена. Ты принят! С чем я тебя и поздравляю заранее!
— Плохо же ты знаешь, товарищ избиратель, и свою депутатку, и ее сына, — снова говорит Сашко.
— Ах, я не угадал? Он не признает протекций? Он ненавидит блат? Он хочет по-честному, хочет самостоятельно решать формулы жизни со многими неизвестными? Не так ли, милый наш Архимедик?
Виталий досадливо покусывает губу.
— Ты ясновидец.
— Юный мой друг! Ухватишь меня за эту благородную бороду, ежели лента событий будет разворачиваться вопреки моим прогнозам, — говорит Гриня и поглаживает рукой светло-рыжий пушок, который он называет бородой.
Этот пух — протест Грини, протест и недоверие, которое он выказывает заведующему рабкоопом товарищу Мажаре. Щедрый на посулы, Мажара имел неосторожность публично пообещать в ближайшее время открыть в совхозе парикмахерскую, и Мамайчук, поймав его на слове, заявил, что не станет бриться до тех пор, пока парикмахерская не будет открыта, и дело сейчас оборачивается так, что весь совхоз следит за этим неравным поединком, а заведующий рабкоопом каждый раз прячется, как увидит хоть издалека молодую Мамайчукову бороду. Бороденка тем временем растет, и когда Гриня, как правый защитник команды, выбегает на поле стадиона, и Виталий, и Сашко, и весь стадион кричат ему:
— Вива Куба!
Сашковы костыли так и пляшут тогда в воздухе от восторга и энтузиазма, а сейчас радист поглядывает на выпяченную вперед Мамайчукову бородку несколько даже иронически.
В коридоре слышны быстрые девичьи шаги, в приоткрытую дверь заглядывает Неля, секретарша:
— Гриня! Пахом Хрисанфович сердится, что ты до сих пор не уехал.
— Передай: выхожу на орбиту. — И Мамайчук в самом деле поднимается. — Попутно, возможно, где-нибудь и на тузлук наскочу. Странная штука этот тузлук: недоваренное мясо, примитив, а как на человека действует! После тузлука мне всегда бороться хочется… Ну, честь труду! — бросает он хлопцам и неторопливо выходит на улицу к своему фургону.
Этот агитфургон, в котором Мамайчук и швец и жнец, целыми днями носится по отделениям или пылит на грейдерной дороге в райцентр за новой кинолентой либо по каким иным делам; хотя задача фургона — прежде всего культурно обслуживать отдаленные кошары, фермы и отделения, однако хозяину его приходится выполнять еще и множество других поручений, быть, что называется, «старшим, куда пошлют». Вот и сейчас Грине дорога предстоит неблизкая — нужно ехать в совхоз «Приморский чабан», с которым они соревнуются, однако Гриня не был бы Гриней, если бы, выехав в степь, не завернул еще на птицеферму, а там, только выйдя из кабины фургона и вступив в белое куриное царство, он уже ошарашивает птичниц излюбленным своим вопросом:
— Для чего вы существуете, то бишь живете?
Такая уж у него привычка — приставать с этим вопросом к каждому.
— Ну вот, родились, выросли, живете, а для чего?
Девчата пожимают плечами, пересмеиваются, а маленькая девочка — дочка старшей птичницы — удивленно смотрит на Мамайчука, на его желтую, как пух на цыпленке, бороду и разрисованную рубашку.
— Ну, скажем, вот у Сани, — кивает Мамайчук на полненькую чернявую молодицу, муж которой проходит службу на Балтийском флоте, — затяжная любовь, она только и ждет праздника, чтобы поехать в Ленинград к своему законному. А вы?
— У тебя бы спросить, — весело отвечает Саня, — для чего ты сам небо коптишь?
— О, это вопрос сложный, над ним я как раз и размышляю в эти дни. Размышлял ночь, все утро и тому же посвящу несколько ближайших лет.
— Не слишком ли щедро?
— А я, девчата, не мелочный. В запасе у меня вечность. Куда спешить, зачем? Ну, пусть я после известных видоизменений стану какой-нибудь другой молекулой, пусть не буду Григорием Мамайчуком, а буду, скажем, арбузом или дыней.
— Или чертополохом, — прыснула со смеху одна из девушек.
— Или чертополохом, какая разница? Главное, что я буду, и никто не в силах прекратить меня в вечности, положить мне конец. Так-то, девчата.
— Гриня, тебе пора жениться, — говорит Одарка, приземистая, с веселыми глазами, в опущенной на брови косынке.
— Голому жениться только подпоясаться, — отвечает Гриня. — А вот вам, девчата, которые незамужние, советую это сделать пораньше, чтобы потом успеть выйти замуж еще раз.
— Вот так посоветовал!
— А то вы по десять классов закончили, однако и до сих пор не знаете, что раньше появилось в природе: курица или это вот яйцо? — И Гриня, подняв у корытца оброненное курицей свежее яйцо, тут же его выпивает.
После этого он едет дальше. Увидев чабана, который маячит у отары на выпасах, Гриня не ленится сделать крюк, заворачивает к нему и, не вылезая из кабины, тоже спрашивает:
— А вы?
— Что я?
— Для чего живете?
— Чтобы баранов стричь.
— Вот это наконец ответ! — даже обрадовался Гриня.
А когда он со своим вопросом обратился у кошары к зоотехнику Тамаре, которая с чабанами отбирала в загородке по биркам производителей для отправки в Болгарию, то реакция Тамары была для Грини совсем неожиданной.
— Проваливай отсюда! — выкрикнула она, и Гриня только тогда заметил, что лицо у нее было мокрое и красное от слез.
А мог бы ведь он догадаться, что Тамара в эти дни переживает душевную драму; недавно вышла она замуж за приезжего техника по искусственному осеменению, а он оказался пьяницей, да таким, что пьет без просыпу; допился однажды до того, что вместе со спиртом, полученным для лабораторной работы, вылакал и все другое из пробирок, за что и попал в совхозный «Перец».
Вот почему Тамара так болезненно приняла вопрос Мамайчука. Без тебя, мол, горько, а ты с дурацкими вопросами лезешь!.. Занятые работой, и Тамара и чабаны после этого уже забыли о Грине; отвернулись от него и отбирают в загородке лучших баранов (трехтонка стоит уже наготове), а Грине после этого ничего не остается, как, передав бригадиру бумажку из бухгалтерии да устное директорское распоряжение относительно этих самых баранов, отправляемых на Балканы, двигаться дальше, по своему основному маршруту.
Едет Гриня, колышется над баранкой пластмассовый зайчик на нитке, усмехается по-заячьи водителю: «А сам-то ты что за субъект? Для чего ты?»
На душе мучительно тоскливо, стыдно за свою бестактность перед Тамарой. Становится просто больно за нее, за ее слезы. Видимо, и сейчас капают они на спины стриженых, сбитых в загородке мериносов, между которыми она ходит, согнувшись… Борец против равнодушия, против черствости и бездушия, как же ты сам не заметил, что Тамара заплакана, что сегодня ей свет не мил!.. И вообще с тех пор как она связала себя с этим пьянчугой, вид у нее всегда такой измученный, похудела, лицо осунулось, только глаза стали еще больше. А какая она была девушкой! Ребята выбирали ее комсоргом не только за деловые качества, но еще и за веселый нрав, за девичью ее привлекательность. Последнее время она работала уже секретарем райкома, невольно перейдя в разряд тех девчат, которым, по мнению Грини, их должности угрожают вечным девичеством: ведь не так просто секретарю райкома после собрания уединиться в парке с рядовым комсомольцем. Однако Тамара, словно бы наперекор пророчествам Мамайчука, быстро и неожиданно нашла себе пару, вышла замуж за этого, как назло, подвернувшегося техника. После свадьбы Тамара возвратилась на работу в совхоз, чтобы неотлучно быть возле мужа, и — странное дело — именно теперь, увидев ее замужней, как-то поникшей, вечно расстроенной от семейных забот и переживаний, Гриня вдруг по-настоящему разглядел Тамару в истинной ее красоте, в ее самоотверженной супружеской верности, и не раз теперь ловил себя на том, что ему хочется глядеть на нее, слышать ее ласковый голос… Просто слышать. Просто глядеть. В измученное сияние глаз заглянуть…