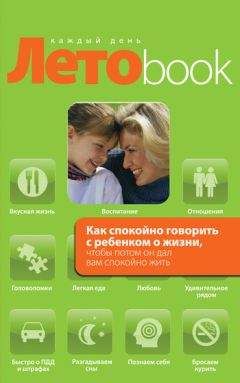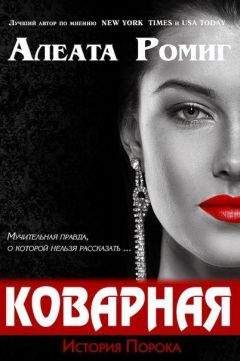Туве Янссон - Путешествие налегке
Гостей Лучо принимает спокойно, как будто без лишних эмоций.
И все же он встречает каждого так, словно уверен в том, что никакая другая встреча в этой земной юдоли не принесла бы ему большей радости. Лучо ненароком подбирает слова, уместные разве что на театральной сцене, и мы полагаем, что это некий лексический феномен, ведь в глубине своей души он именно это и предполагал. Лучо производит впечатление человека, который в любой миг может разразиться дифирамбами или обнять собеседника, другими словами, перейти к преувеличениям. Это заставляет нас нервничать и говорить слишком откровенно, используя прилагательные в высоком стиле, непохожие на обычные условные выражения.
Лучо постоянно мерзнет, и в его квартире полно нагревательных приборов. Он купил себе большую шапку из волчьего меха и смешит нас, опуская уши от холода и ворча. Мы всякий раз хохочем. Нередко он проделывает это, появляясь в гостях и на вечеринках, где чаще всего скучает. Лучо, строго говоря, ничего не пьет, ну разве немного столового вина. Несмотря на свою природную, так сказать, меланхолию, Лучо бывает веселым и может даже стать шумным, когда что-то по-настоящему развлекает его. Само собой разумеется, мы рассказываем ему анекдоты (никогда о сексе); сплошное удовольствие — наблюдать за его напряженным, преисполненным ожидания лицом и его неудержимой радостью вслед за удачной развязкой.
— Как можно запомнить столько смешных историй! — восклицает он.
Сам Лучо анекдотов не рассказывает; как я теперь понимаю, он никогда ничего не рассказывал без предварительных размышлений и комментариев.
Его напряженное внимание к жизни куда меньше касается людей, нежели окружающих их вещей и явлений. Я говорю о тех случаях, когда беседа перескакивает, например, на историю, или на мебель эпохи античности, политику, религию, или — почему бы и нет — на искусство садоводства в XVII веке, промысел глубоководных рыб, да на что хотите! Тогда он с благодарностью и энтузиазмом вступает в дискуссию. Но сам он никогда не заводит беседы на подобные темы. Он ждет! Лучо напоминает мне притаившуюся в ожидании собаку, терпеливую, бдительную… и вот — палку бросают, и собака, охваченная дикой радостью, со всех ног кидается подать ее хозяину.
Я завидовал Лучо, его удивительной любознательности и энтузиазму, которые ему посчастливилось сохранить в его возрасте, но порой его наивное удивление окружающим миром не знало границ. Он никак не мог привыкнуть к тому, что люди летают на Луну.
— Ты можешь это понять? — спрашивает он, понижая голос. — Они там гуляют, на Луне! — говорит он почти шепотом. — Они берут оттуда камни домой на Землю.
Его лицо застыло от удивления и восхищения — он наклоняется вперед и дотрагивается до моего колена, и в редком порыве доверия рассказывает о том, как стоял на склоне Колодезной горы в ожидании зимы, когда русские отправили собаку Лайку в мировое пространство.
— Я видел, как это произошло, — тихо произнес он. — Было больше двадцати градусов, и люди стояли, словно черные изваяния в снегу, один к одному, и все ждали, и увидели, как это происходило. Было не очень светло, и медленно-медленно, высоко над землей, мимо них, пролегла длинная-длинная кривая. Это было чудо!
Он таращит глаза и втягивает губы и неотрывно смотрит на меня так, словно поведал величайшую тайну. Или он может, например, сказать:
— Ты думал, как поразительно то, что каждую весну все начинает расти вновь? Новые зеленые листья появляются именно там, где и раньше.
Не стоит заблуждаться, Лучо при всем при этом совсем не наивен, он очень интеллигентен и может в самом деле выказывать критическую остроту суждений. Возможно, все дело в его необычайной способности удивляться. Порой, когда поздно вечером звонит телефон и он смущенно отсутствующим взглядом смотрит на свой аппарат, могу поклясться, что его вовсе не интересует, кто звонит ему так поздно, он попросту удивляется тому чудесному явлению, что телефон вообще звонит и передает чьи-то слова.
Иногда мне вдруг приходило в голову, что стоило бы опасаться за Лучо, побеспокоиться о нем лишний раз. И при этом я был уверен, что никому из нас не жилось так легко и весело, как ему. Его непосредственность, если можно это так назвать, была абсолютно органична, поэтому он не мог воспользоваться ею, чтобы добиться чего-то или избежать или чтобы произвести впечатление; ее воспринимали как шарм.
Трудно описать Лучо теперь — задним числом. Единственное, что не идет у меня из головы, — он никогда не говорил об Италии. Почему он этого не делал? Возможно, надо было бы попросить его рассказать что-нибудь о его стране.
Вначале мы играли, произнося слово «Ciao»[25], когда встречали его, мы ловили какие-то его итальянские словечки, шуточки и ругательства — это было естественно, своего рода знак внимания с нашей стороны, но Лучо это не нравилось. Он улыбался и замолкал. А иногда надолго впадал в меланхолию. Он не отключал свой телефон, он принимал нас как обычно, и все, собственно говоря, было как раньше, кроме того, что он как бы изображал Лучо, ну, вы понимаете… Он словно угасал, он отсутствовал, он соблюдал учтивость, был любезен и старался изо всех сил, однако без прежнего энтузиазма. Лучо был вообще ничто.
Тогда мы старались оставить его в покое. Я не знаю, что именно было тому причиной. Иногда, думается, это были газеты, то, что происходило в мире. Возможно, он тосковал по дому или тосковал по кому-то, кто был далеко-далеко… Или подошел такой возраст, когда внезапно оглядываешься и замечаешь, что все теперь не так, как ты раньше думал. Не знаю. И Лучо ясно давал знать, что не желает говорить о личных делах.
Когда это проходило, он снова надевал свою шапку из волчьего меха — это был радостный знак, что все вернулось на прежнее место.
Однажды я пытался подбодрить Лучо, взяв его с собой на лыжную прогулку; мы раздобыли ему снаряжение, и он здорово обрадовался. То было очень холодное воскресенье, и мы порядком прошли по льду на лыжах в глубь Южной гавани. Естественно, Лучо пришлось худо, но он изо всех сил волочил за нами ноги вплоть до того места, где вмерзла в лед лодка, — думаю, ему этого хватило. Когда он дошел туда, его лицо посинело и он едва мог говорить.
— Это бесподобно, — сказал он. — Поразительное зрелище! Одинокий ледорез, что сам застрял во льду!
Потихоньку мы вернулись домой. Знаете ли вы, что сделал он? Он умудрился натянуть лыжное крепление выше подъема ноги, выше лыжного ботинка, вы понимаете! Он ведь мог спросить, сказать что-нибудь? Но скорее всего он думал, что так и надо.
Приходилось все время следить за ним, он непрерывно совершал ошибки и то и дело бывал обманут. Хотя Лучо был настороже в ту пору, когда ухаживал за женщинами, он все же попадался. Несмотря на его полное безразличие в этом вопросе, я, бывало, рассказывал ему и о своих женщинах, и он в конце концов очень тихо говорил: «Но она была так молода и легкомысленна».
То было всегда одно и то же: молода и легкомысленна, или с опытом, но неуверенная, или любые другие качества, какие могут быть у женщин, — всегда находилось объяснение. Я знаю, что всему можно дать объяснение. Однако же намерение не равнозначно извинению. А извинение не означает, что все можно забыть. Но Лучо забывал. Он и вправду не вспоминал те несправедливые обиды и горечь, что накопились за всю его жизнь. Мы наблюдали это множество раз, сперва с недоверием, а позже с глубоким облегчением.
Естественно, мы никогда не причиняли ему зла сознательно.
Приятно было дарить Лучо подарки: он бывал так удивлен и обрадован, и так открыто это показывал, что дарящему не было надобности умалять ценность своего подарка. Казалось, он никогда не чувствовал себя отягощенным некоей благодарностью, и ему не приходило в голову поспешить с ответным подарком или со взаимной услугой. Когда же он отдавал визит вежливости, это происходило случайно, мимоходом, и если ты выказывал радость, он громко смеялся.
Теперь, когда я пытаюсь рассказать о Лучо, мне трудно понять, как он мог вызывать у нас такое раздражение! Перед тем как встретиться с ним, а особенно после этого я испытывал чувство какого-то нетерпеливого ожидания, и это могло продолжаться еще очень долго. Когда же я пытался напомнить себе, что он говорил, его интонацию, молчание, глаза… все то, что придавало нашей встрече свой неповторимый характер, все вдруг отступало и становилось нереальным, словно рассказ в книге. Это было как-то досадно, нет, это было странное чувство… словно бы напоказ… будто ты упустил или забыл что-то важное, это трудно определить.
Не знаю, почему он так безоглядно прилепился к нам, но наверняка он знал, что мы любили его. Дружба — это нечто столь серьезное, что трудно говорить об этом. Я пытался. Но боюсь, мне лишь отчасти удалось рассказать о той мучительной, преданной и несколько отстраненной дружбе меж нами и Лучо Джованни Марандино.