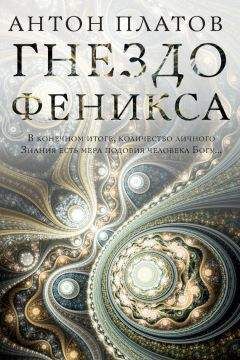Антон Уткин - Крепость сомнения
Потом во дворе под самыми его окнами заработал двигатель. Машина у нее была новая: прогревать ее было не обязательно, но двигатель работал долго, поддерживая его мятущуюся мысль.
И сразу на смену двигателю потек с верхушек шорох кленового листа. Звук был так отчетлив, что Тимофей словно видел его: желтый, похожий на лист плотной бумаги, подмоченной и вздувшейся от сырости, он касался соседних листьев, как будто прощался с ними, медленно переворачивался и, сухо погладив нижнюю ветку, пал почти невесомо раскрытой ладонью.
* * *
Несмотря на погоду, которая словно окутывала сном, Тимофей, после того как шум мотора истончился где-то в переулках, заснуть так и не смог. Побродив по квартире и задумчиво оглядев обстановку, словно видел ее в первый раз, он порылся в бельевом шкафу и достал, наконец, старый противогаз. Надев его на голову, он уселся в кресло напротив окна и стал смотреть. Мир, ограниченный отверстиями для глаз, приятно сузился, и мысль его заработала спокойнее и отчетливей, пролагая тропинку в спасительное прошлое.
Дедушка приучал Тимофея к труду с младых ногтей. В кубанской станице, длиннющей, как ожидание конца жарко-рабочего дня, под командой дедушки и в компании цветасто-ситцевых станичных тетушек Тимофей с двоюродным братом, на лето прикрепленным, или, лучше сказать, прикомандированным к дедушке, собирали помидоры в деревянные ящики. Когда число наполненных ящиков дотянуло в станичной бухгалтерии до пятнадцати рублей, дедушка позволил взять расчет, и Тимофей впервые в жизни ощутил бремя выбора. На двоих с кузеном дедушка великодушно отрядил им свежеотпечатанный червонец, а еще пять рублей, как пойманная синяя птица, впорхнули в его бумажник. (Если кто помнит, какие блага сулило обладание этим бумажным прямоугольником, тот меня поймет.) Но бремя выбора недолго длилось: жизнь, почувствовав в маленьком Тимофее сложившегося потребителя, мигом вывела из затруднения, которое он начинал испытывать, поглядывая на прилавки сельского магазина. Ее посланец, соседский мальчишка года на четыре старше его, – меркантильный Гермес в сандалиях ростовской фабрики «Олимп», – предложил обменять красненький червонец на противогаз, намекнув на возможность ядерной схватки. «Кто их знает, вдруг вдарят, – сказал он как бы в раздумье и даже поглядел на небо. – Лучше иметь». Встретившись с ним у пруда в условленный и не слишком добрый для себя час, Тимофей без сожаления вручил ему прощально хрустнувшую десятку и получил взамен кусок старой резины, оборванной по краю, из которой вырастал гофрированный хобот в пятнах солидола. Тимофей начинал уже гордиться своей прозорливостью и запасливостью, как вдруг укол совести заставил его спохватиться. «А ты как же?» – участливо спросил он, устыдившись собственного благополучия, и тоже поглядел в безмятежно синевшее небо. «А, как-нибудь», – махнул Гермес благородной рукой и испарился, как радиоактивное облако. Тимофей же, обтянув головенку этим резиновым приспособлением, с чувством загодя и без напоминаний исполненного долга весело и гордо зашагал домой. Дышалось ему на удивление легко, главным образом потому, что у противогаза отсутствовали оба глазных стекла, да и бачка, впрочем, тоже не было. Поэтому, представ пред дедушкины очи и надеясь показать ему, что у родины появился новый защитник, а у империалистов всех стран еще один заклятый враг, на славу покумекавший над своей неуязвимостью, Тимофей уже смутно чувствовал, что похож всего лишь на глупого слоника с отколотым носом. Вид Тимофея поверг дедушку в шок, но еще больше дедушки, видавшего все же виды, была изумлена их тучная хозяйка, варившая варенье из желтой алычи. Узнав о сумме, заплаченной за безопасность, она вооружилась палкой, которой мешала варенье, и в сопровождении дедушки и сонмища мух бросилась, как Фурия, на поиски обманщика. Очень быстро он был открыт на задах своего куреня в ту самую минуту, когда собирался вкусить от сигарет без фильтра «Парашютист» в обществе бездельных разгильдяев. Тимофею, однако же, удалось убедить дедушку, что сделка состоялась и не может иметь обратного хода без ущерба для репутации. Длань, протянутая дедушкой навстречу его щепетильности, принесла подзатыльник, а брат, удрученный невежеством брата, не пустословя надавал тумаков. Брат был старше Тимофея тремя годами и тоже зарился на сивый дымок «Парашютиста». Так Тимофей и остался владельцем дырявого противогаза. С тех пор он стал хозяином своему слову, то есть попросту избегал давать каких бы то ни было слов.
Последствия этого маленького происшествия подействовали на психику Тимофея. Стоило ему напялить противогаз, как его маленькое и невзрачное «я» начинало двоиться, троиться, потом отслаивались еще несколько пластов, до тех пор, пока он не превращался в настоящую фанеру небывалой толщины. Из глубин собственного существа до него доносились отзвуки чужих голосов. И волей-неволей приходилось прислушиваться к стонам их ликований и заунывному плеску горестей. И с этих пор он мог запросто пересказать чужую историю, без зазрения совести подменив местоимения. Отчего-то ему стало казаться, что он и впрямь способен проникнуть в мысли других людей и сказать, о чем они думают, когда смотрят в морскую пустыню с корабельного мостика, или когда бредут в колеях черноземной дороги между созревших хлебов, или когда, сидя вечером на завалинке, отдыхают от трудов. Или понять, почему кто-то плачет, когда так весело и удобно устроена жизнь и даже нет ни малейших причин, чтобы просто хмуриться.
В пионерском лагере, когда Тимофей вместе с другими мальчишками, повязав носы алыми треугольниками галстуков, совершали ночные рейды в соседний корпус к писклявым девчонкам с тюбиками открытого «Поморина» в руках, а после предавались жутким воспоминаниям, и он, лежа на подушке и поджав коленки к подбородку, фантазировал один за всю «футбольную» палату, вдохновенно врал, выдумывал нелепых чудовищ, божился, что видел в деревне русалку, и сам в конце концов начинал бояться еще пуще своих благодарных сопливых слушателей. За свои нарративные заслуги он даже получил от товарищей прозвище Муравей. Какую связь усматривали здесь его товарищи, всегда оставалось для него неразрешимой загадкой. Если эта связь опосредована, рассуждал он, то ему никак не проследить весь угловатый, ломкий путь от одного понятия к другому, проделанный в их лохматых головах, намятых футбольным мячом, а если она непосредственна и выражается по прямой, как поезд, вышедший из пункта А в пункт Б, тогда, надо сказать, еще непонятней.
В то же время он напрочь забывал как раз то, что происходило с ним самим, и возможно, потому, что ничего особенного не происходило. Противогаз был сродни шапке-невидимке, подаренной нимфами герою Персею, только никаких подвигов в отличие от героя Тимофею не предстояло. Правда лишь то, что он тоже прятался в противогаз от всех возможных горгон своих дней.
Но, замечал Тимофей со страхом и тоской, все чаще и чаще сидение в противогазе не помогало вернуть душевное спокойствие. Теперь он слышал только слабый, не до конца еще похищенный временем запах резины и ощущал прохладное соприкосновение ее с кожей.
Так случилось и на этот раз. Тимофей с досадой совлек серую резину с своей головы и глянул на часы. Было начало первого. Он немного подумал и набрал номер одного из своих многочисленных друзей.
* * *
Вадим, в обществе которого Тимофей рассчитывал развеять свои тревожные думы, был необыкновенный человек во всех отношениях. Окончив университет, он никогда и нигде не работал, но поддерживал связь буквально со всеми, с кем однажды он имел случай познакомиться. Сами эти люди, пожалуй, не смогли бы так вдруг ответить на вопрос, для чего им нужно такое знакомство и в каких, собственно, отношениях находятся они к этому человеку, но смысл в этом присутствовал... Он сводил людей, которые нуждались друг в друге, знакомил кого-то с кем-то, и как правило, из этих знакомств вырастали дела, приносящие прибыль обеим сторонам. Но свершалось – не делалось – это так ненавязчиво, походя, что все они были уверены, что главная цель сегодняшнего обеда или ужина – провести время в компании этого милого, приятного человека, который все понимает, ничего не осуждает и сочувствует всему новому и необычному. И после пустяковых разговоров о достоинствах той или иной кухни, жалоб на детей эти люди прощались с ним в легком и умиротворенном состоянии духа, ощущая полноту жизни. И в таком если не благостном, то приятном состоянии им казалось столь естественным попросить о чем-то, что в других обстоятельствах и условиях было бы невозможным, неприличным, и в свою очередь подумать над чьей-то просьбой.
Какое-то особое, чуть старомодное достоинство, присущее ему, убеждало, что при его посредничестве и под его присмотром ничего дурного произойти не может, и ничего дурного не происходило. В его присутствии незнакомые люди внезапно проникались друг к другу симпатией и понимали каждый другого с полуслова. Однако кто был, собственно, этот человек, род его занятий никому известен не был, и вопрос об этом многих бы поставил в тупик. Довольно с них было и того, что сегодня он обедал с депутатом таким-то, позавчера его видели с певицей такой-то, а чуть позже в компании известнейшего театрального критика. Никто не удивлялся, встретив его в приемной министра, в редакции ведущей газеты или модного журнала, или в закрытом клубе в обществе известного хоккеиста, прилетевшего на родину всего на три дня.