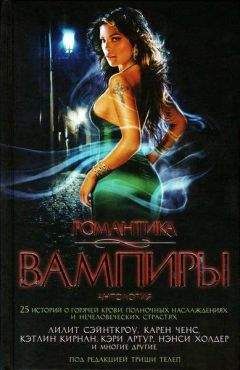РИЧАРД ФЛАНАГАН - КНИГА РЫБ ГОУЛДА
Вы вправе спросить: как такое было возможно?
Но стоило лишь услышать, как он говорит о своих мечтах, о своих видениях — и грубые доски у вас под ногами начинали ходить ходуном; стены камеры, сложенные из плохо отёсанных плит слоистого песчаника, куда-то исчезали; весь мир тюрьмы, сочащийся скукой и безысходностью, преображался у вас на глазах. И прежде чем вы отдавали себе отчёт в случившемся, вас уносило в южные небеса, в далёкую страну легенд и мифов, где, может быть, и впрямь самовластно правил могучий владыка, даже тиран; её овевала магия его слов, его чарующих рассказов о надеждах своих и опасениях; и с каждой фразой его, с каждым жестом описываемый им мир становился реальнее и реальнее.
После швартовки всех арестантов выгнали на палубу и заставили раздеться, и пока мы, совсем голые, дрожали, стоя босиком на холодных досках, тюремные приставы совали пальцы нам в задницы, заглядывали в рот, шарили там в поисках заначек табаку и драгоценных камней. Потом нам разрешили одеться, и мы стали ждать прибытия Коменданта.
С рассветом он явился нас поприветствовать. Внешность его была необычна: не то чтобы он выглядел коротышкою, но его большую голову словно насадили прямо на конусообразное тело, и создавалось впечатление, будто у него вообще нет шеи. Грива чёрных волос, густых и волнистых, являла собой наиболее приятную черту во всём его облике, хотя экстравагантность причёски только подчёркивала многочисленные физические недостатки. На любом другом человеке необычное платье, в кое он был одет, — голубой мундир, дополняемый золотой маскою, и такого же цвета военные панталоны — заслонили бы всё остальное, в первую очередь приковав к себе все взоры. Но в то утро мы прежде всего обращали внимание на то, как он говорил: прямо и просто, порой переходя на какой-то сумасшедший язык, иногда напоминающий пиджин-инглиш, эту смесь английского и китайского, иногда — диалект чёрных рабов, а иногда — воровское арго, на котором общались многие каторжники, и что-то гипнотизирующее было в его речах, в их страстности.
Прежде чем мы смогли осознать подобное чудо, парусник наш превратился в гонимое ветром облако, и, по мере того как за спиной у Коменданта меркли пастельные краски восхода, уступая место чистой синеве утреннего неба, он всё ясней обрисовывал наше будущее, унося нас к нему на крыльях фантазии; и вот мы уже видели сей маленький остров величественным гигантом мировой торговли, внушающим трепет, чтимым и уважаемым ради его богатства и могущества, ради его красоты, ради величия его общественных устоев. Мы видели, как множество купцов, художников, куртизанок и всяческих иных искателей удачи покидают отдалённые края, где родились и провели молодость, оставляя там и своё прошлое, и свой диалект, родных и близких, друзей и любимых, пускаясь в долгий путь с одним лишь горячим желанием воплотить свои честолюбивые устремления и самые несбыточные мечты, дабы явиться на сей юный остров, омываемый южным морем.
Он представлял — и мы вместе с ним — самого себя изображённым художниками в римской тоге, воспетым в эпических одах, в коих представал великим героем; основателем славной династии, представители коей без размышлений пойдут войной на любого дерзнувшего усомниться в том, что их пращур был человеком чести. Он представлял самого себя почитаемым, как никто другой, и не замечал никакого противоречия между своими династическими планами, замашками самодержца и своим официальным статусом британского чиновника, поставленного короной начальствовать над штрафной колонией — каторжным поселением, входящим в состав империи, а также своим преклонением перед итальянскими городами-республиками эпохи Ренессанса, такими как Флоренция и Венеция, относительно устройства коих он имел довольно превратные представления, поверхностно усвоенные из скучных путеводителей по Италии. Книжицы эти прислала женщина, которая, как мы узнали впоследствии, приходилась ему сестрою и которую звали мисс Анна, — художница, автор романтических акварелей, примечательная не столько своими творениями, сколько мимолётной греховною связью с Томасом Де Куинси, что приключилась меж ними во время единственного семестра, который этот писатель провёл за курением опиума, заживо погребённый, точно в склепе, под ветхими серыми сводами Вустер-Колледжа в Оксфорде, — путеводители прилагались к письмам оттуда.
Комендант, страдая странною разновидностью пляски святого Витта, испытывал большое почтение к миражам и призракам нового века и, заикаясь, частенько заявлял нам, что впредь наисильнейшие творческие порывы человек станет испытывать в области техники, в коей они и будут реализованы. Нас всех увлекла его неистощимая страсть к созиданию — в его планы входило перестроить здешний рынок, воздвигнув на его месте колоссальный застеклённый дворец; а извилистая грязная дорога, ведущая от причалов, должна была стать невероятно широким, прямым как стрела бульваром Предначертания, в самом дальнем конце которого предстояло вознестись массивной железной аркаде, под которой будут маршировать войска за неимением каторжников, а в хорошую погоду прогуливаться влюблённые.
Но он так и не понял, что именно завораживало нас в этих воображаемых картинах будущего города, — то была сама речь его.
Стоило ему заговорить, как всё на свете становилось возможным; и, хотя мы знали, что никогда не получим никаких выгод от его прожектов, а лишь отдадим жизни ради их претворения в кирпичи и строительный раствор, в кружево из кованого железа и стекла, всё же наше ничтожество заставляло нас чувствовать — по крайней мере, пока он разговаривал с нами, а это он мог делать долго, — что он сообщает самому существованию нашему смысл, значение и ещё нечто подразумевающее: мы не рабы; да, он обещал нам кое-что получше басенок типа «от колыбели до самой смерти», а большего нам и не требовалось. Он предлагал нам взглянуть на себя с другой стороны, предлагал какую-то «паровую машину», с помощью которой мы смогли бы переделать и нас самих, и наш мир, дабы избежать доли узников, для чего нам требовалось ускользнуть и от прошлого, и от будущего, предназначенного нам исправительною системой.
То был мир, требовавший, чтобы реальность брала за образец вымысел, ожидавший этого от всех нас. Для такого мастера подлога, как я, в тот момент, казалось, открывались поистине беспредельные возможности, и, по правде сказать, кто мог предположить в ту пору как моё блистательное возвышение в недалёком будущем, так и тот ужасный удел, который всем нам был в конце концов уготован? Ведь в итоге нашему Коменданту, возжелавшему выпить море до дна, предстояло лопнуть от непомерной, размером с океан, гордыни, оставив и остров, и немногих уцелевших его обитателей на произвол судьбы, в горе, одиночестве и отчаянии. При общении с представителями власти следует неизменно руководствоваться нерушимым правилом: чем глупее они, тем глупей должен быть ты. А потому мне было предначертано со всей неизбежностью стать на Сара-Айленде тем, кем я, наипрезреннейшее из существ, прежде лишь притворялся — Художником (да, именно с большой буквы, ибо такое прозвище я там получил).
III
По высадке нам пришлось испытать на себе всю присущую каторге грубость обращения и всю убогость существования, какие только можно было ожидать от подобного места. Но даже до того, как наш пакетбот отдал швартовы, ещё прежде, чем мы увидели всё вблизи, носы наши уже почувствовали дыхание смерти. Смерть здесь была повсюду: и в запахах покрасневших, словно обмазанных охрой, тел, и в испещрённых шанкрами душах. Смерть присутствовала в миазмах, источаемых гангренозными, разлагающимися членами и лохмотьями кровоточащих, чахоточных лёгких. Смерть скрывалась в зловещих ароматах порки, пряталась в только что выстроенных бараках, уже разваливающихся от вездесущей влаги, которая проникала во все щели, сочилась даже из наших сфинктеров, где от постоянных посягательств безжалостных содомитов также завелась гниль. Смертью веяло и от зловонных испарений перепревшего, разлагающегося ила, и от холодной враждебности, приводившей в оцепенение; она ощущалась в долгих часах посреди четырёх стен, опасно покосившихся, ибо каменная кладка не выдерживала сырости; её выдыхали вместе со множеством неслышимых криков отчаяния; она сопутствовала незримым убийствам, плавала на поверхности крепчайшего рассола — здешнего, настоянного на безмолвном ужасе воздуха, в котором кожа покрывалась лишаями и висела ошмётками; мы чуяли смерть в жутком зловонии одежды, которая кисла от пота, пропитавшего не только её, но и всё вокруг; казалось, само время не властно над его испарениями, приправленными душком кровянистых выделений, и ни проветривание, ни стирка не помогали от них избавиться. И может быть, оттого, что везде витала смерть, жизнь, как некое извращение, никогда не казалась мне такой сладкой, как по прибытии на Сара-Айленд.