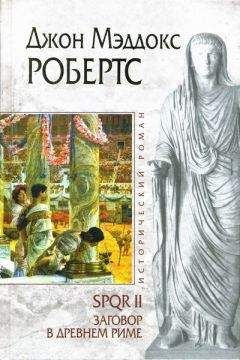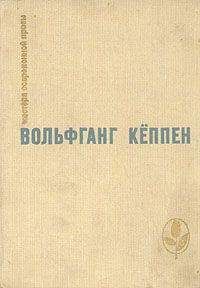Вольфганг Кеппен - Смерть в Риме
Пфафраты ехали в отель, где остановился Юдеян, в машине, которой правил Дитрих, и думали: мы не можем сказать ему прямо, нужно сообщить осторожно — она сошла с ума; да, после всего, что ей пришлось вынести, пожалуй, нет ничего удивительного в том, что она сошла с ума, но мы сделали все, что могли, нам упрекнуть себя не в чем, никто не может упрекнуть нас, мы поддерживали ее, Юдеян должен это признать, мы привезли ее сюда, и пусть теперь он решает, как с ней быть. А Дитрих думал: дядя живет в более шикарном отеле, чем мы, у него, видно, есть деньжата; когда мы учились в Орденсбурге, я завидовал Адольфу — его отец занимал гораздо более высокое положение, чем мой; хотелось бы знать, по-прежнему ли у него более высокое положение и как удалось Юдеяну ускользнуть от врагов, как ему удалось прорваться; интересно, остался ли он все тот же, добьется ли снова власти, возобновит ли борьбу и стоит ли уже перейти на его сторону или это пока слишком рискованно?
А Фридрих-Вильгельм Пфафрат сказал:
— Может быть, еще рано думать о его возвращении! Может быть, ему следует подождать год-другой, пока ситуация станет яснее. Суверенитет нам, конечно, дадут, и новая армия у нас тоже будет, нельзя не признать, что боннское правительство в этом отношении хорошо поработало, и все же нам пока приходится лавировать, но, когда армия будет создана, тогда, может быть, настанет время для подлинно национальных сил взять власть в свои руки и рассчитаться с изменниками.
— С изменниками рассчитаются, — сказал Дитрих.
На лице его появилось злобное выражение, он судорожно стиснул руль. Он чуть не задавил господина, который, словно дипломат, с раскрытым зонтиком переходил улицу у Порта Пинчана и столь явно и очевидно верил в торжество разума, что едва не попал под машину.
Юдеян встретил их в халате, он обтерся спиртом, надушил седую щетину туалетной водой и выглядел как старый преуспевающий боксер, который ради хорошего гонорара еще раз выходит на ринг. Роскошь, окружавшая его, смутила их. Они стояли перед ним как просители, как бедные родственники, как стояли перед ним всегда; он заметил это и почувствовал себя на высоте положения, все было рассчитано — они видели стены, обтянутые шелком, ощущали под ногами толстый ковер, их пленяли его чемоданы, а на кровати они увидели венец всей этой роскоши, знак независимости и власти — большого шелудивого кота.
— Это Бенито, — представил его Юдеян.
Ему было приятно их восхищение и их тайный ужас. Фридриха-Вильгельма Пфафрата просто жуть взяла при виде паршивого животного, но он и виду не подал, хотя ему чудилось, что храпящий черный конь, который мчал его во сне, превратился в этого шелудивого кота. Юдеян не спросил Пфафратов о Еве. Он видел их насквозь. Он прищурил глаза, и они стали узкими, хитрыми и злыми, как у вепря, он угрожающе нагнул голову, пусть противник на ринге остережется старого боксера. Теперь Ева стала для них бедной родственницей, а Пфафраты, разумеется, благодетели; этого нельзя дольше терпеть. Юдеян решил позаботиться о Еве. Он раздобудет денег, пусть она купит себе дом и станет независимой. Как только Пфафраты заговорили о Еве, Юдеян остановил их движением руки. Он обо всем позаботится сам, сказал он с величественным, диктаторским жестом. Он не высказал желания повидать Еву. Он понимает ее. Он понимает, почему она не пришла; правильно сделала. Они не могут увидеться, не могут взглянуть друг другу в глаза, они не могут увидеться в присутствии Пфафратов, этих обывателей, которые ничего не поняли, ничего не постигли. Может быть, Юдеян сумеет тайно повидать Еву, словно скорбящую тайную возлюбленную, увидеть которую ему так страшно.
Но вот боксер дал маху, неосторожно открылся, спросил об Адольфе, и Дитрих тут же выпалил: Адольф стал попом; удар был страшен, в сонную артерию. Юдеян покачнулся, лицо его исказилось, он побелел, потом залился краской, щеки, лоб, кожа побагровели, жилы набухли, словно его вот-вот хватит паралич, он вцепился в горло, будто задыхаясь, и вдруг с его губ полился поток ругательств, поток грязи. Эти извержения захлестнули Пфафратов, Юдеян ревел, что все они подлизы, приспособленцы, скряги, они теперь дрожат и пикнуть не смеют, точно домашние свиньи, увидевшие вепря; но виноваты они, они в ответе за измену, вероломство, дезертирство, капитуляцию, лакейство перед врагом, они в штаны наклали, лизоблюды, коллаборационисты, пресмыкающиеся подхалимы, жалкие псы, они хнычут от страха перед адом и повизгивают перед священниками, они, видно, прикатили в Рим, чтобы добывать ноги папе и испросить себе отпущение грехов! Но история осудит их, Германия проклянет, немецкое отечество отвергнет их, такой народ, как они, достоин гибели, это понял и фюрер; фюрер явился трусливому народу, прогнившему племени — в этом была его трагедия; а они слушали, господин обер-бургомистр слушал его, фрау Анна и Дитрих безмолвно ловили каждое слово и дрожали, точь-в-точь как в былые дни: великий Юдеян говорил речь, высокий начальник гневался, и они покорялись, они даже испытывали какое-то удовольствие, сладострастную резь в животе и ниже, они преклонялись перед ним. Он смолк. Он изнемог. Раньше бы такая речь не лишила его сил, раньше подобные взрывы только укрепляли Юдеяна. Его волосы слиплись, шелковая пижама под халатом вымокла от пота, лицо все еще было багровым, как гребень индюка. Но его не свалить, он не рухнул на ринг, а, быстро овладев собой и похлопывая себя по ляжкам, рассмеялся: вот так анекдот, великолепный анекдот, ему следовало отправить на небеса еще больше попов, раз уж он сам поставил одного церкви; Юдеян прошелся по комнате, налил себе коньяку и выпил его залпом, предложил коньяку им, но только Фридрих-Вильгельм Пфафрат разрешил себе рюмочку. Дитрих же извинился — он ведь должен вести машину; подобная воздержанность вызвала у Юдеяна только презрительный смех.
— Что у нас за дети! — воскликнул он; казалось, ему пришла в голову какая-то забавная мысль, он подошел к кровати и вырвал из когтей Бенито итальянскую газету, которую подавали вместе с завтраком. Юдеян стал рассматривать ее, не понимая текста, разглядывал картинки и подписи под ними и обнаружил портрет своего племянника Зигфрида, он едва помнил его, но, должно быть, это все-таки его племянник Зигфрид Пфафрат, и вот он протянул фотографию Фридриху-Вильгельму Пфафрату с возмущением и насмешкой, ибо, не поняв подписи под портретом, Юдеян решил, что племянник стал скрипачом. Разумеется, он признает, что это не так скверно, как быть попом, но все же весьма скверное занятие, и оно противоречит традициям семьи, происхождению, воспитанию и военной школе; так Юдеяну удалась маленькая месть.
Пфафрат взял газету, он был ошеломлен столь неожиданной атакой и возразил, что Зигфрид не скрипач, а композитор, и тут же рассердился на себя за то, что сказал это, ведь для Юдеяна не имело значения, пиликает ли Зигфрид в кафе или пишет концерты, так или иначе, это не мужское занятие, недостойная профессия. Пфафрат согласен с Юдеяном, но все же портрет сына в римской газете вызвал в нем иные чувства; может быть, ему вспомнился домашний книжный шкаф, где стоят сочинения Гете и биография Вагнера, он гордился Зигфридом, гордился тем, что у него такой сын, он протянул газету Анне, та закудахтала, словно наседка, которая высидела утенка и видит, как он бросается в пруд, прямо в воду, и плывет, отдаваясь стихии. Дитрих тоже склонился над газетой и, увидев портрет брата, пробормотал:
— Черт возьми, — что могло в равной мере выражать изумление, радость или негодование. Юдеян так и остался опозоренным своим благочестивым отпрыском, а Пфафратам, пожалуй, даже лестно, что у них такой сын, который пиликает на скрипке или сочиняет музыку, хотя им совершенно неизвестны ни его взгляды, ни его пороки; может быть, он ведет грязную жизнь в обществе евреев и людей без роду, без племени, может быть, газета дала публикацию за хорошую мзду.
Юдеян нервно расхаживал в своем халате по комнате — так ходит по рингу взволнованный боксер, протестующий против несправедливого решения судей. Он наотрез отказался поехать с Пфафратами в Кассино. Что ему поля сражений, сказал он издеваясь, на которых тишь да гладь, где земля уже впитала кровь, где уже зарыты трупы и снова растут цветочки, где пасутся ослы, а рядом с ними, на смех ослам, ползают по земле туристы. Да и что такое битва под Кассино по сравнению с битвой под Берлином! Под Берлином произошло сражение, которое не кончилось а никогда не кончится, битва продолжается, она продолжается незримо, ему хотелось сказать — бой ведется над землей, но Юдеян позабыл легенду о Каталунской битве, которую учил в школе маленький Готлиб, он помнил только, что кто-то сражался в воздухе, но то были не духи умерших, духов не существует, и не сами умершие, они хоть и существуют, но сражаться не могут, — наверно, это были летчики, и естественно, что летчики сражаются в воздухе, они и в дальнейшем будут так же сражаться, будут в конце концов сражаться новым оружием — всей мощью атома, потому что им не удалось отстоять Берлин.