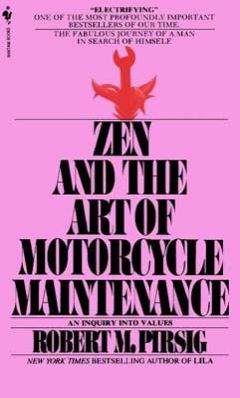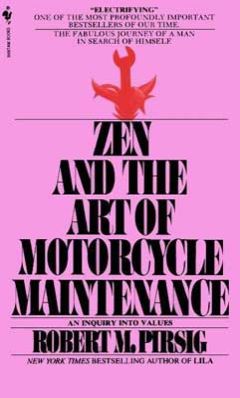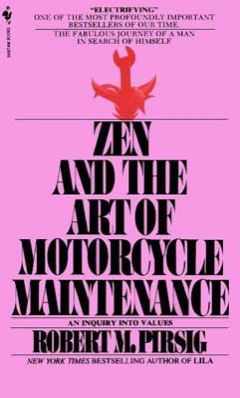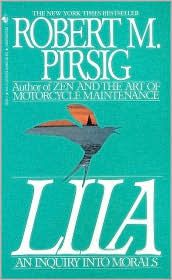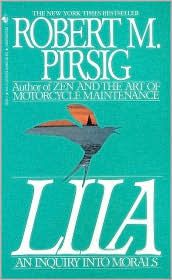Махмуд Теймур - Рассказы арабских писателей
Амина хорошо знала, что если мы приняли решение, значит к концу недели у нас кончатся деньги и мы будем брать все в долг, а булочник Осман и бакалейщик Таха каждый день будут требовать уплаты. А потом, как это обычно бывало в таких случаях, после долгого спора со мной она станет проклинать свою жизнь, замужество, завод, рабочих, профсоюз, породившую ее мать и отца, который выдал ее замуж. Прокляв все на свете, она, наконец, проклянет и меня и заплачет над своей горькой долей. Затем, собрав в узелок кое-какие вещи, она возьмет наших детей — Талаата, Сабри и Джалала — и пойдет, обиженная и несчастная, к своей матери. А мать, подперев щеку жилистой рукой, будет пилить ее и с утра до ночи осыпать упреками:
«Горе ты мое, несчастье ты мое. Вот не хотела выходить замуж за моего племянника Рамадана, вышла за этого оборванца, а теперь мучаешься… О аллах, когда же все это кончится!..»
Вот что знала Амина, вот чего она так боялась. И одна только мысль о том, что я снова могу надолго остаться без работы, приводила ее в ужас.
Пока мы вшестером пили по очереди чай из четырех чашек, я не переставал думать о выработанном нами плане действий. Казалось, мы предусмотрели все мелочи и были готовы ко всякой случайности. Уроки, которые мы извлекли из нашей прошлой борьбы, не пропали даром. Мы обсудили все, что может произойти во время забастовки и помешать нам. Когда мы вышли из комнаты и я в накинутом на одно плечо пиджаке спускался по лестнице вслед за товарищами, я услышал голос Амины, которая тихо окликнула меня:
— Халил! Ты мне нужен!
Я подумал, что сейчас Амина скажет мне, что скрывалось за ее беспокойным взглядом, когда она подавала нам чай. Я обнял ее и ждал, что она в ответ улыбнется мне, как в прежние дни.
Но она сказала:
— Мне надоело мучиться, Халил, я больше не могу терпеть, не могу. Я лучше сразу возьму детей и уйду, только не к матери. Как-нибудь проживу. Пойду работать служанкой… — И улыбнулась.
В глазах Амины было что-то, напоминавшее счастливые дни нашей молодости, и вместе с тем что-то суровое, полученное от нашей тяжелой жизни. Это что-то в ее взгляде говорило мне: нет, нет, Амина не сделает этого, она тебя любит, уважает, верит тебе, и она знает, что ты все равно поступишь так, как считаешь нужным.
В это мгновение передо мной пронеслось все наше прошлое. Я вспомнил начало нашей любви, когда работал на медеплавильном заводе и жил в комнате на чердаке, которую снимал у ее родителей, вспомнил, как она ждала меня, когда меня уволили с завода и я лежал в больнице, потому что меня задело машиной, как ее мать была против нашей женитьбы и хотела выдать ее за своего племянника Рамадана, как я копил деньги — двадцать фунтов — для ее выкупа, откладывая часть своей заработной платы и продав старую мебель, принадлежавшую моей матери, как я экономил на всем, как мы потом поженились и жили счастливо несколько месяцев, счастливо, несмотря на то, что к концу недели у нас никогда не было денег. Я вспомнил все дни, прожитые вместе, смерть моей матери, рождение нашего первенца — Талаата, которого я увидел только после выхода из тюрьмы Тур, мою недавнюю болезнь, когда Амине пришлось продать все наши вещи, нашу ссору на прошлой недели из-за того, что бабка Умм Махмуд дала ей лекарство, чтобы у нее больше не было детей.
Все это молниеносно промелькнуло передо мной, и я сказал, стараясь казаться веселым:
— Стыдно, стыдно, Амина, не говори так. Будь храброй. Ты же всегда помогала мне. Разве ты не веришь в наше будущее? Будь умницей.
И когда я, перескакивая через ступеньки, побежал догонять товарищей, поджидавших меня в переулке, я не думал, что Амина действительно уйдет, забрав с собой детей, и что я, вернувшись, не найду их ни дома, ни у ее матери.
* * *
Все эти воспоминания, теснясь и обгоняя друг друга, проходили в моей памяти, когда я сидел в камере тюрьмы Кармуз, глядя на железную решетку окна. В углу камеры спали мои товарищи — Азил и Джамал. За окном раздавались равномерные шаги часовых перед тюрьмой, а с угла улицы Саада доносился голос Саляма, торговца макаронами, который стучал медной ложкой по краю подноса и выкрикивал: «Макароны, макароны!»
Сквозь частую железную решетку я видел, как улица Нила постепенно заполнялась стекавшимися сюда из прилегающих переулков рабочими. В предрассветной мгле они шли на завод. Компания приняла три наших требования из пяти, но меня и двух моих товарищей заключили в тюрьму.
Сначала мне были видны только ноги рабочих. Тысячи ног пересекали улицу Кармуз, заполняя всю ее целиком. Теперь я уже видел руки, плечи, головы рабочих и наконец увидел их лица, почти все знакомые мне. Они шли к своим станкам на завод, который находился в нескольких шагах от тюрьмы. У ворот завода стояли солдаты. Голоса рабочих звучали все громче и громче. Мне казалось, что большие ворота завода — это огромная страшная пасть, готовая жадно проглотить и перемолоть всякого, кто к ней приблизится.
Сердце сжалось, когда я представил своих товарищей работающими у станков, в то время как мы трое сидим здесь, за решеткой. С горькой улыбкой я подумал об Амине: «В первый раз ты не пришла навестить меня. Кто же теперь ободряюще улыбнется мне милыми глазами, кто помашет мне рукой? В первый раз тебя здесь нет, Амина». Никогда бы я не поверил, что она может так рассердиться и совсем покинуть меня, что ее силы и терпение могут иссякнуть. Ведь она всегда переносила с улыбкой трудности нашей тяжелой жизни и вместе со мной мечтала о счастливом будущем. Мне стало тоскливо и горько. Я почувствовал, что какой-то комок подступает к горлу, но тут же подавил свою слабость. Я опустил голову, посмотрел на спящих на полу товарищей и… вдруг услышал голос Амины, теплый, мягкий, родной голос… Ее белая тонкая рука с длинными пальцами протянула мне сквозь решетку маленький сверток, глаза нежно смотрели на меня, как после долгой разлуки, и в них дрожала робкая улыбка, будто она просила прощения.
— Халил, здравствуй!
Мое сердце затрепетало от радости. С волнением я схватил протянутую мне руку и почувствовал теплоту ее пальцев. Я любовался ее лицом, круглым и маленьким, как у детей, и смотрел на нее благодарным, любящим взглядом. Сверток из ее рук я взял, как счастливый ребенок берет новую игрушку. Развязав узелок, я нашел в нем две лепешки, маслины, папиросы и халву. Тахинную халву и маслины — то, что она всегда носила мне в тюрьму…
АБДУРРАХМАН АШ-ШАРКАВИ
Летняя охота на голубей
Перевод А. Султанова
Крестьяне на току ссыпали господскую пшеницу в большие мешки. Хлеб, испеченный из пшеницы, ели только англичане да господа. Простые люди жили и умирали, так и не узнав вкуса пшеничного хлеба. Помещики хорошо это знали и считали, что крестьяне испортят желудки, если будут есть что-нибудь другое, кроме хлеба, испеченного из маисовой муки. Поэтому, прежде чем сеять маис, господа выясняли сначала наличие домашнего скота, а затем и число крестьянских душ. Часто, когда наступала осень, в крестьянских амбарах не оставалось маисовой муки, но и время жатвы крестьяне каждый год встречали без радости. Они понимали, что это не их жатва. Они знали, что эта жатва — их очередное страдание и что они, подобно мертвецам в некоторых легендах, бредут от могилы к могиле, повторяя проклятия своему господину.
Всякий раз с началом жатвы в египетских деревнях распевают печальные песни о тех, кто ушел сражаться за свободу и не вернулся; о жизни, текущей капля за каплей; о труде, затраченном понапрасну; о горизонте, черном от копоти порохового дыма; о печали по отнятому миру. И как только кончается жатва, затихают голоса, в деревне остаются лишь уставшие люди, палящее солнце и белые голуби, мирно клюющие зерна пшеницы.
В поле окруженный голубями сидел трехлетний ребенок, босой, в изодранной рубашонке. Он не работал, так как не был еще в состоянии держать в своих ручонках мотыгу. Он смеялся, хлопал в ладоши, протягивал голубям зерна пшеницы, которые они охотно клевали. Голуби садились на его голову, а он, закрыв глаза, заливался звонким смехом. Он наслаждался своим детством, не ведая ни о каких превратностях жизни. Английские солдаты, пришедшие поохотиться на голубей, с неудовольствием видели, что голуби не хотят улетать от ребенка. Неужели они вернуться без добычи?.. Терпение покинуло их, один из солдат, подняв с земли камень, швырнул им в голубя и попал в ребенка. Голубь вспорхнул, а ребенок заплакал. Плач ребенка, нарушивший дневную тишину, услышала одна из женщин. Посмотрев вокруг, она не нашла ни матери, ни отца ребенка. В жестокой битве за существование, которую ведут крестьяне, и в изнуряющей борьбе за кусок хлеба ради своих детей родители иногда совсем забывают о них. Вот и теперь мать ребенка была далеко, за стогом соломы, и, согнувшись над землей, подбирала и очищала от пыли разбросанные колосья пшеницы. Отец в это время насыпал в мешок зерно. И если бы женщина не собирала в поле колосья, а отец ребенка не насыпал зерно в мешок, то неизвестно, какая кара ожидала бы их обоих.