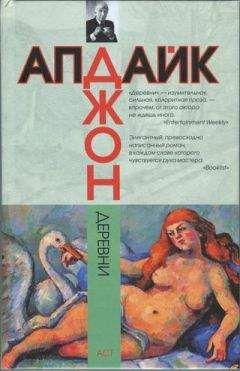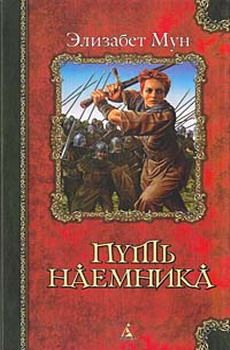Герман Кант - Актовый зал. Выходные данные
На три марки я накупил новогодних открыток — по два пфеннига за штуку. Шестьдесят пфеннигов оставляю в резерве. А под вечер, как начали повсюду украшать елки, я и двинул. Делаю надпись на конверте: «Безработный просит о помощи. Купите одну из прилагаемых открыток. В случае отказа открытки возвратить». Конверт сую в щелку для писем, а сам звоню. Успех невероятный! Новогодние открытки на рождество нужны всякому, ну, и почти все в это время года настроены очень приветливо. Цены я не называл, и кое-кто давал даже по десять пфеннигов за штуку. А вечером меня везде приглашали отведать рождественского пирога. Вскоре я стал говорить, что у меня болит живот, и клал куски пирога в портфель с открытками. Он тут же наполнился доверху, пришлось мне даже два раза бегать на постоялый двор его выгружать. Потом я прихватил с собой одного типа, он стоял у подъезда с двумя большими сумками. До того как закрыли писчебумажный магазин, я успел еще прикупить открыток. Мне ведь, сам понимаешь, оба праздничных дня из квартиры в квартиру ходить — когда еще будет такой сезон! А вечером на постоялом дворе пожирали мои пироги, ну, парень, и наворачивали! Я велел составить столы, вывалил на них все это добро и давай продавать по пфеннигу за штуку. Даром! Прямо из рук рвали! И все же кое-что, сам понимаешь, я на этом подзаработал.
В общем за рождество я нажил тридцать одну марку сорок шесть пфеннигов. И если ты теперь вспомнишь, с чего я начинал, то поймешь, что я был за парень. Учти еще тогдашний кризис — покупательная способность почти нулевая!
Роберту были уже известны почти все истории Германа, но он всякий раз выслушивал их заново с глубоким интересом. Разные небылицы, охотничьи рассказы, изложенные в сентиментальном духе и расцвеченные воспоминаниями о воскресной школе и сведениями о движении акций на бирже, — вариации на тему о чистильщике, ставшем миллионером.
Герман Грипер не был миллионером, но для этого ему не хватало совсем немного. Его заведение было невелико, если судить по помещению, но зато удачно расположено — как раз посредине Реепербана, и тот, кто шел или ехал из гавани, почти неизбежно попадал прямо в его раскрытые двери. За сутки пивная Германа обслуживала примерно столько же клиентов, сколько проходит пассажиров по перрону железнодорожной станции. В пивной подавали только сосиски, картофельные оладьи и напитки, но его годовой оборот по одним лишь сосискам значительно превышал полмиллиона. Пивная называлась «Острый угол», но самым острым блюдом в этом «углу», включая горчицу, ром и жующих сосиски завсегдатаев, был и оставался сам Герман.
Он не хвастал, говоря Роберту: «Ты просто болваном будешь, если не останешься и не напишешь мои мемуары! Ведь ты бы на этом деле дуриком кучу денег заработал, я тебе гарантирую! Тридцать лет уголовщины, и ни одного дня отсидки!»
Это было удивительное явление; Роберт не раз наблюдал его с изумлением, но так никогда и не сумел объяснить себе до конца. Человек мог достичь предела своих желаний, стать министром, маршалом, банкиром или гангстером на покое, но в один прекрасный день им непременно овладевало бешеное желание выйти на широкую арену со своими триумфами и прибавить ко всему достигнутому еще нечто чрезвычайно для него ценное: книгу, написанную собственной рукой. И когда Герман Грипер, без пяти минут миллионер с тридцатилетним жульническим стажем, рассказывал шурину легенду своей жизни, он делал это не только ради того, чтобы прельстить его материалом, но и ради того, чтобы хотя бы таким путем избавиться от груза воспоминаний. Раз уж нельзя написать книгу, пусть хоть кто-нибудь выслушает.
Прошлое, к которому обращал свой взор Герман Грипер, трудно было назвать светлым, и рассказывал он о нем без всякого юмора. Он развертывал перед Робертом воспоминания разжиревшей и охромевшей канализационной крысы, но воспоминания эти были довольно занятны, особенно если учесть обстоятельства, при которых рассказывались.
Герман лежал на диване и всякий раз, приподымаясь, чтобы подлить в стаканы, чуть отодвигал занавеску на маленьком окошечке и, заглянув в зал, считал гостей у стойки и за столиками. «Дела идут», — говорил он обычно с удовлетворением и время от времени барабанил пальцем по стеклу, напоминая жене, что пора «удить рыбку». Жена его, Лида, сестра Роберта, входила после этого в комнату и приносила часть выручки — вынутые из кассы крупные ассигнации. Герман разглаживал их ладонью и прятал в бумажник, лежавший у него под подушкой. При этом он давал Лиде указания, сколько горчицы должны раздатчицы класть на тарелки, и велел ей следить за тем, чтобы вчерашние позеленевшие сосиски подавали не кому попало, а тому, кому надо. Лида выслушивала его приказы холодно: она уже давно жила в этом вертепе и хорошо знала свое дело, а муж ее был на двадцать пять лет ближе к могиле, чем она сама. Выходя, она подмигивала Роберту. И, как только она оказывалась за дверью, Герман тоже ему подмигивал и принимался расхваливать усердие и деловые качества его сестры.
— А сколько она работает! — не унимался он. — Да это просто клад, золото. Я и сам когда-то работал вовсю, ух и работал, скажу я тебе, с утра до ночи. Кто-то напел мне, что так зарабатывают деньги, и я, как дурак, поверил. Нанялся в порт на элеватор. Был у них такой зернопровод, зерно прямо с барж отсасывал. Труба шла по прямой, а потом загибалась, и там была небольшая дверца, потому что в этом месте иногда получался затор. Вот к этой-то дверце меня и приставили — смотреть, как скользит зерно, и помешивать его специальной палкой, если какая заминка. Ну и зрелище, скажу я тебе, поток золотого зерна, миллионы, миллиарды эдаких малюсеньких штуковинок, но мне не нравилось, что все они так и норовят мимо меня да мимо меня, и тем быстрей, тем самоуверенней, чем чаще я шебуршу палкой. Эдак, брат, сказал я себе, останешься с носом. Вот тогда-то я и стал деловым человеком.
Сперва торговал золотыми часами. Их и впрямь, знаешь, не отличить от золотых, когда получаешь от реставратора. Тут главное — не допустить проникновения воздуха. Они, понимаешь, позолочены методом обжигания, так это называется, и выдерживают всего лишь сутки. Я покупал всякий раз по три пары, каждая обходилась мне по восемь марок и восемьдесят пфеннигов. Двое часов у меня были в коробочках, хорошо упакованы в вату, из-за воздуха, сам понимаешь, а одни в жилетном кармане. Вот я и прогуливаюсь воскресным утром по Реепербану, когда пижоны возвращаются с Фишмаркта. Всякая там деревенщина, молодые парни, приехавшие из глухих мест, знаешь, решили пережить что-нибудь эдакое. По вечерам-то они обычно осторожны, ну а утром что может случиться?
Мой первенький был сыном мясника из Бремервёрде. Сперва я за ним понаблюдал, потом подхожу, снимаю шляпу, очень взволнован. «Простите, — говорю, — я не здешний, не знаете ли вы, где тут ломбард?» — «Нет, — говорит, — я тоже приезжий, а разве ломбарды вообще-то по воскресеньям открыты?» Тут я побледнел, наверно, совсем стал зеленым с лица, потому что он говорит: «Что это с вами, вам плохо, а что вам вообще-то надо в ломбарде?»
Ну, я и объясняю ему, что наделал долгов, а мой кредитор грозится теперь все рассказать отцу, если я не заплачу до обеда, вот я и хотел заложить часы. Этот голубчик глядит на меня эдак с хитрецой и говорит, что прекрасно все понимает, у него тоже строгий отец, мясник в Бремервёрде, но он, пожалуй, мог бы мне помочь — а ну-ка, посмотрим, что за часы такие.
Я поскорей достаю часы из жилета, а сам первым делом гляжу, золотые ли они еще, а он, увидев, что часы золотые, корчит такую гримасу, как все равно в кинофильме, когда играют в покер. «И сколько же вы за них хотите?» — спрашивает, а я отмахиваюсь: «Да я не собираюсь их продавать! Это подарок отца на конфирмацию, он всякий раз про них спрашивает, они ведь такие дорогие! Потому-то я и хотел в ломбард, оттуда я их всегда могу назад взять, как буду опять при деньгах».
Ну, брат, дает мне этот осел тридцать марок под залог часов и записывает свой адрес, чтобы я мог их у него выкупить за тридцать пять, когда у меня будут деньги. «Эмиль Шульц, — говорит, — это и есть я, в Бремервёрде спросишь любого, там меня каждая собака знает. Да что вы, — говорит, — не стоит благодарности, всегда рад помочь». И тут, гляжу, пошел он прочь — сперва потихоньку, не спеша, а потом все быстрей и быстрей, и если он очень поторопился, то часы еще были золотыми, когда он перешагнул порог своей мясной лавки.
Вошла Лида, взглянула на уровень в бутылке и молча подождала, пока Герман досмакует свой рассказ.
— Ты лучше его не слушай, — сказала она, — он говорит правду. После второй бутылки он всегда говорит правду. Ну, как, был ты в Парене?
Она всякий раз спрашивала про Парен, но Роберт знал, что спрашивает она совсем о другом. Она приехала в Парен тогда же, когда и он, — во время войны, спасаясь от бомбежек, и уехала из него в тот же самый день, что и Роберт, но по другим причинам и в противоположном направлении. Для Роберта это чуть не обернулось исключением из университета, и если бы не Рибенлам и Трулезанд, кто знает, чем бы все это кончилось.