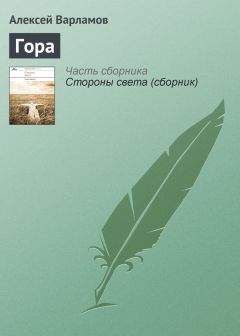Александр Проханов - Красно-коричневый
Они лежали за опрокинутым сейфом, он и Морпех. Выставили из-за стальных углов автоматы. Хлопьянов подошвой чувствовал вытянутую ногу Морпеха. Гильзы от коротких очередей Морпеха светлячками перелетали через голову Хлопьянова. Там, куда уходили очереди, в прямоугольный зев коридора, не было ответной стрельбы, не было атакующих криков. Но Хлопьянов угадывал близкое скопление плотных, готовых к броску энергий. Они проявляли себя едва заметным излучением, которое ядовито и опасно светилось на выходе.
– Закидают гранатами, только красные клочки полетят! – Морпех повернул к Хлопьянову крупное, липкое от пота лицо, на котором топорщились усы и зло, затравлено желтели рысьи глаза. – Мячиков нам накидают!
Эти рысьи глаза страшились узреть, как из черной дыры коридора, на разных высотах, вылетают черные клубни гранат. Звякают на ступенях, катятся, прыгают, а потом одновременно взрываются, разбрасывая сталь осколков. Красные взрывы, стонущие, отползающие в разные стороны люди, а из коридора – хриплый рык атакующих, серые униформы, грохочущие у животов автоматы.
– Скажи мужикам, чтоб не стреляли! – Хлопьянов подчинял свои движения не мыслям, а горячим мышцам, дрожащим зрачкам, накаленному дыханию, отдавая себя этой самодвижущей, чуткой, выше всех разумений энергии, толкнувшей его вперед. Качая плечами, перенося из стороны в сторону центр тяжести своего послушного тела, он метнулся к коридору, достиг устья и прижался к стене, прячась за угол.
Снова ударил танк. Вогнал снаряд в сердцевину Дома. Гул разрыва покатился, как оползень, сволакивающий булыжники, накрывая звуком затаившихся депутатов, кричащего в трубку Руцкого, раненых в липких от крови носилках, отца Владимира, упавшего перед образом. И пока эхо омывало их всех, собравшихся в злосчастном, убиваемом Доме, Хлопьянов вынырнул из-под этого оползня, сунул в коридор ствол автомата и на вытянутых руках, продолжая скрывать за уступом грудь, выпустил в коридор долгую, слепую, грохочущую очередь. Вырезал по кругам, по спирали весь длинный желоб, от потолка до пола, вдоль стен, вырывая из паркета длинные щепы, прочерчивая в штукатурке длинные надрезы, протачивая коридор сплошной свистящей фрезой. Он крутил стволом, словно мешал квашню. Замешивал ее на пулях, дыме, слепящих вспышках, стонах и криках раздираемых тел, на перебитых костях и жирной, хлещущей крови. Он расстрелял почти весь комплект и в момент тишины выдернул автомат из дымной проруби. Привычно, по-афгански, перевернул спаренные, перемотанные изолентой рожки, передернул затвор. Крутанул головой, приглашая за собой Морпеха. Сунул автомат в черный проем коридора и кинулся в конус света, расходящийся от его стреляющего, раскаленного ствола.
Крича и стреляя, он добежал до поворота, где коридор изгибался, отклонялся в сторону. В своем беге он наступил на невидимое мягкое тело, издававшее стоны и всхлипы. Когда иссяк второй магазин и автомат перестал сотрясаться, он повернул назад. Снова наступил в живую мякоть, заметил у глаз светлые дырочки, пробитые пулями в дверях кабинета.
Вернулся в холл и стал у стены, опустив автомат, задыхаясь, чувствуя, как катится по груди под одеждой липкий пот.
– Завалите ход! – командовал Красный генерал, сидя все в той же нахохленной позе, словно бег по коридору Хлопьянова и его возвращение обратно продолжались секунду. – Навалите сейфы, и пару стволов в бойницу!
Приднестровцы двигали сейф. Он оставлял на мраморе белую сплошную царапину. Хлопьянов успокаивался, чувствовал, как радостно и сильно бежит в нем кровь. Выигранный в одиночку скоротечный бой вернул ему осмысленность бытия. Бытие отводило ему не роль беспомощного, убиваемого бессловесного скота, а свободного человека, достигающего праведных целей.
– Мужики, не стреляйте! – раздалось из дальнего конца коридора. – Дайте раненых подобрать!..
Этот сипатый сдавленный голос поразил Хлопьянова. Там, на другом конце коридора, стоит такой же, как и он, русский офицер, усталый, потный, со спаренным, перемотанным изолентой рожком. Быть может, встречались в каком-нибудь транспорте, летящем из Кандагара в Кабул. В ледяном ночном небе маленькая голубая луна. Рядом, на мешке с парашютом, спит, запрокинув лицо, пехотный офицер. И теперь Хлопьянов в центре Москвы перестрелял его группу захвата, и тот, опустив автомат, сипло выкликивает:
– Мужики, не стреляйте!.. Дайте вытащить раненых!.. Пять минут!..
Ему не ответили. Все, кто был в холле, перестали двигать сейфы, передвигаться. Красный генерал вытянул запястье с часами. Хлопьянов из-за выступа слышал, как коридор наполнился движениями, стонами. Кого-то поднимали, несли. Казалось, наружу из тьмы долетал ослабленный лучик фонарика.
Прошло пять минут. Звуков больше не было слышно. Морпех сложил ладонь черпачком, выставил в коридор и крикнул:
– У вас готово?
Вместо ответа коротко, зло простучала очередь. Пули из коридора вылетели в холл, разбили и осыпали хрустальную сосульку на люстре.
Глава пятидесятая
Пространство, в котором он жил и которое наблюдал сквозь огромный проем окна, и время, в котором протекали события за окном, на набережной и в просторном, исстрелянном пулями холле, то совмещались, вплетались одно в другое, то расслаивались и существовали отдельно. Короткие перебежки солдат, собиравшихся за парапетом для атаки. Шальной, с воспаленными фарами, транспортер, пронесшийся вдоль реки. Танковый выстрел, от которого дрогнули и осыпались липы. Гул попадания, колыхнувший расшатанное здание. Все это протекало синхронно с его дыханием, биением сердца, чутким ожиданием и высматриванием. А потом вдруг время и пространство расслаивались, и он оказывался в тесном московском дворике с душистой клумбой, на которой росли высокие белые табаки, и бабушка, прищурив глаза, тянулась к цветку с крохотной золотой сердцевинкой, и он, перестав играть, отложив в песочнице целлулоидную формочку, смотрит на бабушку, как нюхает она белый цветок.
Кто-то тронул его за плечо. Морпех стоял за спинкой его золоченого кресла. Его кисть была перемотана платком, и на нем расплывалась красная клякса.
– Генерал зовет!.. Дурдом какой-то!..
Красный генерал примостился на поваленной тумбочке, отставив ногу, в старинной картинной позе полководца, сидящего на барабане. Исчезла его сердитая нахохленность, сходство с продрогшей усталой птицей, загнанной и заклеванной, опустившейся с неба на землю. Он вскинул на Хлопьянова свои круглые блестящие глаза. Ноздри горбатого носа зло дышали. Колючие усы шевелились. Обгорелая, покрытая рубцами рука была сжата в кулак. Помолодел, похудел, продолжал походить на птицу, но ту, что прижала к телу свои крепкие глазированные перья, вцепилась в ветку отточенными когтями, отвела назад упругие заостренные крылья и ждала толчка, удара сердца, чтобы кинуться в свистящий ветер, помчаться над зеленым лесом, устремив на добычу отточенный клюв, – красноватый вихрь над синей кромкой дубравы.