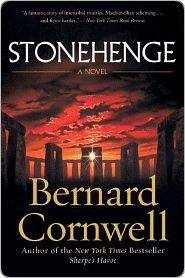Валерий Залотуха - Свечка. Том 2
– Помните, вы говорили однажды об идее своего романа? На Пасху, помните?
Я неохотно вернул трубку к уху и сказал.
– Нет.
– Ну как же… – растерялся мой бывший герой романа, который уже никогда не будет написан. – …как же: «Однажды один интеллигентный человек пошел защищать демократию и встретил Бога…» Вы говорили мне это, помните?
– Ну? – неохотно согласился я, раздраженно думая, что не было в моей чеканной, отточенной годами размышлений формулировке никакого «однажды», и человек не был «интеллигентным», он был человек, просто человек!
– Так вот, это еще не все, не до конца, там у вас не точка, а многоточие, а это плохой знак препинания, если вы хотите сказать что-то важное, определенное, – частил Золоторотов.
– Вот как? – удивился я. – А у вас, значит, точка? А что же вместо моего многоточия?
Я не скрывал иронии и даже, я бы сказал, сарказма, но он не почувствовал.
– Это не рассказать по телефону. Приезжайте, я вам объясню, и вы поймете, теперь, я уверен, поймете!
Раньше, значит, я бы не понял, извините за многоточие…
– Так вы приедете, скажите, вы приедете? – не просто спрашивал, но настаивал Золоторотов с не свойственной ему настойчивостью.
– Нет, – твердо ответил я и посмотрел на жену, ища поддержки в ее взгляде, а не найдя, самодовольно усмехнулся.
– Это он позвонил, чтобы напомнить о долге. Одолжил мне денег на бензин, когда я от них уезжал. Жаба душит, – объяснил я, отдавая жене трубку.
– Дурак, – сказала она и ушла.
Я не спорил.
Но какое же удовольствие я получил, употребив это самое главное, самое важное, самое значительное на свете слово – нет.
Нет – и всё!
А на нет и суда нет.
Нет!
Не удовольствие даже – наслаждение, стопудовую положительную эмоцию. И какое же это невероятное счастье – накормить от пуза и потрепать по лоснящейся щечке живущего в тебе гада.
Я убил героя своего ненаписанного романа. Это оказалось легко и неподсудно.
Пиф-паф! Ой-ой-ой!
Вот и умер мой герой!
И вместе с героем убил и роман. Ну, убил и убил, кому какое дело…
7Всю осень и половину зимы я пролежал на диване, время от времени переворачиваясь на спину и вздыхая. Тогда на грудь мне немедленно вспрыгивала Лушка и, высунув розовый и блестящий, как атласный лоскут, язычок, склонив голову набок, внимательно и недоуменно на меня смотрела. В ее маленьком, правильно устроенном мозгу не укладывалось, как может пребывать в депрессии человек, у которого есть фокс?
Она словно не заметила ухода Груши. Я прощал ей ее короткую память и, сгоняя с груди, завидовал.
Делать было нечего. Когда жена уходила на работу (она работала редактором в различных книжных издательствах, она хороший редактор, но из-за своей принципиальности больше года нигде не задерживается), я бродил по квартире в одних трусах, стараясь не смотреть на свой рабочий стол – маленький, о четырех ящичках, с резьбой и зеленым сукном и с неизменным букетиком свежих цветов, которые ставила на него жена, как делала это, когда я работал.
Изнывая от безделья, копаясь в кипе старых газет, скопившихся в прихожей на антресолях, я наткнулся на озадачивший меня заголовок в газете, которую потом, недолго думая, обозвал «Столичным молодежником». Даже на фоне нынешней журналистской разнузданности он выглядел впечатляюще: «Орально, анально и, наконец, вагинально». Я прочитал заметку трижды, вспоминая что-то, что, казалось, забыл навсегда, после чего стал копаться в кипах газет, ища продолжения темы и с азартом охотника его находя. (Уже потом я взял большие редакторские ножницы жены, стал вырезать интересующие меня заметки и наклеивать их на дверь моего кабинета, составляя своеобразный пазл.) Подавляющее присутствие в нем материалов из двух, в основном, газет: «Столичного молодежника» и» Ежедневного бизнесмена» (тоже недолго думал) объясняется тем, что только эти газеты я тогда покупал, возможно потому, что они были самыми, так сказать, демократическими – резали правду-матку по самое не могу.
Когда жена вернулась с работы, ее встретил не тот человек, который валялся трупом на диване, когда она уходила, хотя внешне тот же – в одних трусах, измятый, небритый, нечесаный. Зато с ножницами в руках и с новым очень важным знанием в голове. Жена смотрела настороженно, хотя и с надеждой.
– А ты знаешь, кто твой Золоторотов? – спросил я, делая ударение на «твой» и предвкушая дальнейший разговор.
– Раньше он был твой, – сдержанно напомнила жена.
– Хорошо, мой, – почти охотно согласился я. – Знаешь, кто мой Золоторотов? Маньяк!
Огонек надежды погас в глазах моей любимой, она потянула расширившимися ноздрями воздух и, не обнаружив алкогольного духа, робко улыбнулась.
В волнении чмокнув жену в щеку, я взял ее за руку и, как была, в зимней, источающей снежный холод одежде, подвел к кабинетной двери, сверху донизу заклеенной газетными заметками. И она стала читать, внимательно и долго, так долго, что я стал зябнуть и натянул штаны. Дойдя, наконец, до самого низа, она подняла голову, остановила на мне свой внимательный взгляд и произнесла единственно возможные для себя и для меня слова:
– Не верю.
– Ну что, – сказал я, почесав взлохмаченную репу. – Поеду отдавать долг.
Жена просияла взглядом и произнесла слова, каких не заслуживал и не ожидал уже от нее услышать.
III
Морозы стояли под тридцать, но «Василек» завелся сразу, доказывая, что отечественные машины созданы не для того, чтобы красоваться или утверждать значимость их владельцев, а для того, чтобы покорять просторы нашей бескрайней родины вне зависимости от времени года.
Словно истосковавшись по дороге, «Нивка» донесла меня до Городища, как Сивка-бурка Иванушку-дурачка, так легко и беспроблемно, что я не заметил шести проведенных за рулем часов.
Зимний Городище был совсем не похож на себя летом. Он не был неряшлив и грязен, и по его улицам не слонялись туда-сюда пьяные бездельники, не стояли кружком досужие кумушки – от головы до пят укрытый белой сияющей парчой, он был чист и пустынен, как душа только что покаявшегося, еще укрытого епитрахилью грешника.
Издавая оглушительный скрип и хруст, целеноправленно и ходко по улицам передвигались редкие прохожие: женщины – большие, полные от ватина своих зимних пальто с меховыми воротниками, в высоких, похожих на боярские ондатровых шапках, и мужики – те же, что и летом, только в телогрейках, и носы красные в синеву, – эти семенили к гастроному нервными рывками, останавливаясь, чтобы прикурить иззябшими руками погасшую папиросину.
Люди как люди, жизнь как жизнь, Городище как Городище…
На заснеженном речном берегу лежал паром, нежно и бережно укрытый сияющим праздничной белизной пуховым одеялом.