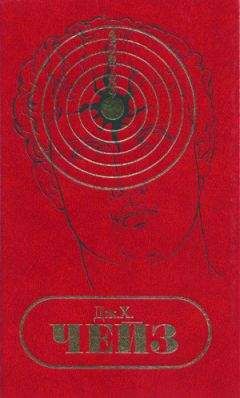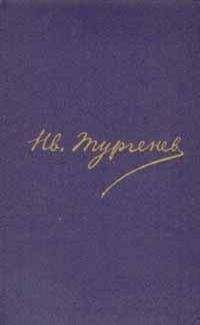Виктор Астафьев - Последний поклон (повесть в рассказах)
Я послонялся по двору, заглянул в подметенные, продезинфицированные помещения пересылки и расположился на осеннем воздухе, под забором. Вынув харчишки из крашенного домодельной зеленухой мешка с наляпанной на самом видном месте белой заплатой, я крепко покушал, умяв одну из трех буханок хлеба, выданных мне на карточки, и полбутылки топленого масла, отоваренного на жировые и мясные талоны, и почувствовал полное умиротворение. Все мои тяготы-заботы словно бы остались за воротами пересылки, отчужденность и безразличие овладели моей душой — я еще не знал великого свойства армии, но уже чувствовал, что сам себе не принадлежу, что за меня думают, мною распоряжаются, обо мне заботятся, чтоб накормить, одеть, обуть, и за все за это надо всего лишь подчиняться.
Эка невидаль! А в школе? А в ФЗО? А на станции я чего делал? Подчинялся, выполнял команды. Да еще вкалывал, да еще голову ломал о житье-бытье, а здесь и забот-то — не уперли б сидор[249].
В казармах было вонько, прямо-таки удушливо от дезинфекции, на голой осенней земле я лечь побоялся — научила меня болезнь остерегаться простуды. В дальнем углу пересылки обнаружилась сорванная с гвоздя доска. Я ее отодвинул, просунулся в лаз и обнаружил уютную, травой поросшую территорию со скамейками, среди которых стоял красивый дом, у ворот — крепкий, как гриб подосиновик, флигель. Не вникая особо, куда попал, а попал я, как потом выяснилось, во двор музея Василия Ивановича Сурикова, — расположился на уютной скамье, под пожухлой, но все еще мохнатой сиренью, уснул глубоко, безмятежно и проснулся лишь на вечерней заре.
— И где этот деляга с зеленым сидором и белой заплатой? — грозно вопрошал кто-то за оградой. — Найду, винегрет из него сделаю!..
Я приподнялся, глянул на мешок, положенный под голову, на все еще ослепительно белую заплату и догадался — ищут меня. Я пролез в дырку и, насвистывая, стал прогуливаться по пересылке, все время поворачиваясь так, чтоб видно было белую заплатку на мешке.
— Стой! — кто-то схватил меня сзади за мешок.
— Стою!
— Ты где был?
Я в рифму ответил где — и мешок сразу отпустили. Передо мною, сурово насупившись, стоял сержант с подбритыми бровями, тот самый, который был в комнате писаря, когда меня оформляли. Я поинтересовался, что ему надо, и он многозначительно ответил:
— Тебя, сеньор!
— Простите, сэр, но мы с вами не так близко знакомы, чтобы сразу переходить на «ты».
— А сейчас познакомимся, и ты не рад этому будешь! — заявил сержант и с присвистом, в щель передних зубов, разрешаясь злобой и властью, распиравшими его грудь, скомандовал: — Кр-рю-хом! Н-на кухню ш-гом арш!
— Но, но, не больно… — начал было я щепериться — сержант вот-вот должен был воспламениться, он уже дымился:
— Н-на кухню! Ш-гом! Иначе я из тебя, морда, винегрет сделаю!..
— А это видел? — поднес я ему кулак под нос. И мы схватились драться. Сидор мне мешал, связывал действия, да и после больницы я. Товарищ сержант одолевал меня. Но, вспомнив удалые детдомовские времена, я изловчился и поддел его на «кумпол». Сержант сразу перестал драться, схватился за нос, посмотрел на ладонь.
— Нос разбил! — сержант еще раз поднес ладонь, еще раз посмотрел на нее и, потрясенный, прошептал: — Старшему по званию! Командиру эркэка!..
— А ты не тырься! — срывая листок пыльного подорожника и прикладывая его к носу товарища сержанта, сказал я. — Раз командир эркэка, воспитывай словами. Тебе тут не старорежимная армия — чуть чего — в рожу!..
Зажав подорожником нос, сержант подавленно молчал, потом высморкался и уже без металла в голосе тускло приказал следовать за ним.
Мы оказались в подсобном помещении пищеблока. В неоглядном зале, загроможденном бочками, ящиками, баками, было сыро и мрачно. Пахло здесь, как в доковской столовой, которую посетили мы когда-то с дядей Васей, — гнилой картошкой, очистками, квашеной капустой, несвежим мясом. В полумраке подсобки копошились бесплотные фигуры. Товарищ сержант дал мне наказ: вместе с доходягами и симулянтами, отставшими от боевой сибирской бригады, чистить картошку до тех пор, пока я не сдохну. О том, чтоб сдох непременно и поскорее, он, сержант Федор Рассохин, позаботится лично.
— Побег с ответственного участка работы расцениваю как дезертирство! — предупредил сержант, заранее уверенный, что я обязательно смоюсь из подсобки, от грязной работы.
Первое в армии наказание я воспринял с легким сердцем, даже с удовольствием. Товарищ сержант Федор Рассохин не ведал, какую тихую радость мне доставляет чищение картошек. От бабушки перешла ко мне привязанность к этой работе и в детдоме закрепилась. Дома, на деревенском огороде, садили почти изведенную потом за малоурожайность русскую скороспелку, розовато-нежного цвета снаружи, с розоватым кружевцем, точнее, с розоватым куржачком внутри, бодрую в цвету, терпеливую к холоду, спорую в росте и такую нежную, что едва ее ножом тронешь — сок брызжет, а коли сварится, то вся как есть потрескается, и вдоль и поперек, обнажая под кожей сахаристую рассыпчатость.
Выкопает, бывало, бабушка гнездо-другое картошек, овощи всякой надергает, с корзинами спустится к Енисею и долго булькается в воде. Сперва по отдельности помоет каждую овощь, затем, подоткнув юбку, забредет поглубже и поводит корзиной в светлой струе туда-сюда, после встряхнет над водой ту и другую корзины, но когда подденет их на коромысло, все равно из плетенок густо каплет, дырявит пыль обочь тропинки. Поднявшись на яр, еще не войдя в заулок, бабушка певучим голосом кликала меня. Если я играл поблизости, срывался ей навстречу, она на ходу поворачивалась ко мне той корзиной, в которой зеленела мохнатой ботвой морковь, упруго топорщились листья брюквы, собравшие в разложье слитки чистой воды. И видя, какая мне радость от чистой и потому особо лакомой овощи, бабушка, лучась морщинками, поощряла:
— Бери, бери, товаришшэй потчуй! Бог уродил, Бог людям угодил, — экая благодать от земли!..
В детдоме я был самый прилежный чистильщик картошек, потому как, слушая легкий скрип ножа, уединялся от людей и пристрастился выдумывать все красивое, даже что-то похожее на стишки. Вьется, бывало, стружка картофельная, вьются в голове мыслишки, вспоминается деревня, бабушка, как она даже зимой, не жалея рук и плеч, носила лишнее коромысло воды и обмывала картошку — меньше грязнятся и трескаются пальцы, и, чистя картошку, бабушка, наверное, тоже думала о всякой всячине, отдыхала от суеты и хлопот.
Знай все это товарищ сержант, так и не строжился бы — он через каждый час наведывался в подсобку и удивленно приподнимал подбритые брови: «Ты еще тут!» За полночь, преодолев строгость, велел плеснуть мне в толченую картошку черпак масла, выдал сухарь — для укрепления сил, пояснил, что наутро прибывает команда в пятьсот душ, ее приказано столовать, иначе с него снимут шкуру, а он с нас три.