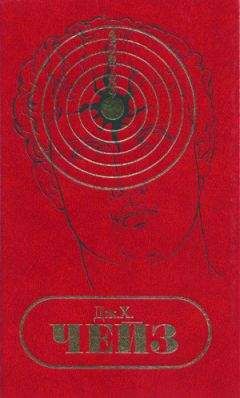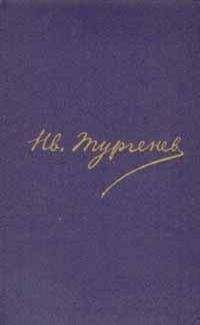Виктор Астафьев - Последний поклон (повесть в рассказах)
Книга про знаменитого пирата была без обложки и зачитана до тряпичного вида. С годами я начал думать, что она мне приснилась или от военной контузии возникла в моей нездоровой голове.
Каково же было мое потрясение, когда на мой осторожный вопрос насчет знаменитой книги Иван Маркелович Кузнецов, бородатый книгочей, безвозвратно помешанный на литературе и, кажется, знающий все книги насквозь и помнящий все, что в них и про них написано, просунул руку в книжную полутемь и из пыльного завала вынул «Фому-ягненка», да еще и с подзаголовком — «Рыцарь наживы».
Оказалось, что сочинил «Фому» Клод Фаррер, офицер французского флота, и не только ее, а и множество романов с такими завлекательными названиями, которые нашим лениво мозгами пошевеливающим писателям и не снились: «Последняя богиня», «Король кораблекрушений», «Барышня Дак», «Девушка-путешественница», «Забытая беда», — в двадцатых годах выходило на русском языке его пятнадцатитомное собрание сочинений.
Вот какого замечательного автора судьба или Господь подсунули мне в трудную минуту. И думал я тогда: «Ах, Фома ты, Фома! Почти наш Ерема, взял бы ты меня отсюда в свою боевую команду, ох и дал бы я звону на морях и на суше, уж повеселился бы, попил и поел, и женщин перепортил бы не-эсчетное количество! А пока что, Фома-Ерема, жрать мне охота, как твоим пиратам, подзаблудившимся в безбрежном океане и давно не щипавшим мирные пузатые корабли и усыпанные плодами и яствами берега…» Карточки мои прикреплены в станционном магазине, хлеб по ним я могу получить только в Базаихе. Здесь мне дали три картофельные оладушки, какой-то суп-рататуй, и я, несмотря на боль в горле, заглотил всю эту пищу, аж слезы из глаз выдавило. Было у меня маленько деньжонок в гимнастерке, купила мне няня банку варенца, погрела в печке, я его выпил, но не проняло меня, сильнее жрать захотелось.
И тут нашла меня Августа — написали ей со станции, что я в тяжелом состоянии отправлен в больницу. В деревне подумали, что я попал под колеса. Увидев ноги, руки мои на месте, тетка расплакалась, развязала узелок. В узелке кастрюля, в кастрюле суп из костей от ветчины — отоварили вместо мяса на сплавщицком лесоучастке, где Августа вкалывала и откуда обыденкой между сменами побежала ко мне.
Ни удивиться, ни умилиться ее поступком и тому, что со станции написали, — я не успел. Заслышав запах мясного бульона, скорее схватил ложку, попробовал хлебать его, теплый, запашистый, но ложкой получалось медленно, я взял кастрюлю за дужки и, не отрываясь, выпил похлебку.
Августа, пока я пил, смотрела на меня, и частили слезы из ее глаз.
— Во-от! — выдохнул я. — Теперь живу! — В узелке еще были лепешки из неободранного овса, я их завернул обратно — горло будут царапать.
— А говоришь-то ниче, нормально, — сказала Августа, вытирая глаза концом платка.
— Так ведь чего ж…
— Может, тебя отпустят на денек после больницы?
— Едва ли. Сегодня сцепщика привезли со Злобино. Без выходных работают, через двенадцать часов.
— Х-хосподи! А мы-то, в лесу-то — бабье одно… Наши-то, овсянские-то хоть сызмальства в тайге — привычные, а вакуированные шибко мерзнут и увечатся…
— Бабушка как? Девчонки?
— С имя и водится баушка. Ягоденок набрали дивно. Картошек накопали. Может, перезимуем. Мы-то чё, мы вместе. Ты — один. Помер бы… И не узнашь, где похоронетый… — У тетки опять задрожал голос, закапали слезы.
— Ладно, живы будем — не помрем!
— Кости возьми и обгложи, тут где хрящик, где чё завязилось…
— Полезное занятие.
— Ну дак я пошла. Ночесь на работу. Отпустят, дак иди, не бойся, не объешь. Картошшонки свои, пайку дают…
— Хорошо-хорошо. — Я накоротке приткнулся щекой к голове Августы, она меня поцеловала в лоб потрескавшимися губами и перекрестила.
— Мама велела.
— Ты уж не говори ей лишнего-то. Я в этой, — тряхнул я старой, латаной и застиранной пижамой, — в гуне в этой не гляжусь, а так-то — жених!..
— Жени-их! — махнула рукой тетка и, утирая ладонью лицо, пошла из больничного скверика меж желтых, почти уже осыпавшихся тополей. Возле ворот Августа обернулась, приподняла руку и что-то сказала. «Дак приходи!» — догадался я. «Ладно, ладно», — отмахнулся я.
Вернувшись в палату с костями в поле пижамы, я с сожалением глянул на дважды прочитанного «Фому-ягненка» и принялся глодать кости, выколачивать из них мозг. Большинство больных спало, лишь один, самый надоедливый больной, стажер красноярского пункта технического осмотра вагонов, сдуру, может, и нарочно, засунувший пальцы под тормозную колодку во время пробы тормозов, попрыгивая, ходил меж коек, тряс спадающими с тощего зада пижамными штанами, напевая с тем занудливым, приблатненным воем, который дается лишь тюремным кадровикам: «А ты мне изменила, другого полюбила, зачем же ты мне ща-шарики крютила?..»
— На! — протянул я ему кость. Стажер остановился и глядел на меня, ничего не понимая. — Заткнись! — пояснил я. Он выхватил кость, захрустел ею.
— Шешнадцать лет проробил, и ни единой царапины, — жаловался старый сцепщик, — теперь всего переломало, а все оттого, што «Давай! Давай!». Вот и дали! Три сменшыка осталось! Че оне втроем-то? Устанут, на себя и на правила рукой махнут, вот порежет которого… Дадут практиканта из фэзэу, дак тоже не выручка, за имя больше смотри, чем за сигнализацией, — так и норовят куда не следует: да прыгают, все прыгают, будто козявки с ногами в жопе.
— На! — протянул я кость стажеру. — Отнеси труженику! От благодарного фэзэошника…
И дядька утих, занялся костью. Стажер присел на мою кровать, смекая насчет добавки, начал рассказывать о той фартовой жизни, какую изведал он.
«Да знаю я эту роскошную жизнь, в детдоме наслушался. Вот у Фомы-пирата была жизнь так жизнь!..»
* * * *
Так и не сделав прижигание, я выписался из больницы. Ой, как я пожалею об этом, как буду мучиться ангиной на фронте, да и после фронта, не сделав, как оказалось, пустяковой процедуры — пластинки, подключенные к легкому току и приложенные к тому месту, по которому мы щелкаем, когда хочется дернуть водки.
Весело катил я на «Ученике», который задом вперед тащил паровоз, и шуровал в нем знакомый мне по ФЗО парень из кочегарской группы. День был лучезарный, мягкий: в лесу, знал я, оседала на колючие растения последняя паутина; последние листья срывало ветром с берез и осин, подножие лиственниц устилало пухом желтой хвои; мохнатые белянки примораживало иньями, они стеклянно хрустели и рассыпались под обувью; в воронках озеленелых от сырости рыжиков намерзала хрупкая ледышка; рябчики свистели и бодрились по утрам; глухари шумно взлетали с осинников, взбивая вороха листьев; дрозды разбойничьими стаями облепляли рябины и черемухи в деревенских и пригородных палисадниках; улетели ласточки и стрижи; стронулась в отлет местная водоплавающая птица; грустно замерев, часами сидели на мокрых камешках кулички-перевозчики; глядя на воду, подогнув лапки, брюшком липли к бревнам и плыли куда-то серые трясогузки. Все-все в природе завершало летнюю работу и страду, готовясь ко сну, и только в мире, у людей не наступало успокоения, они все дрались, дрались, сводили друг дружку со свету.