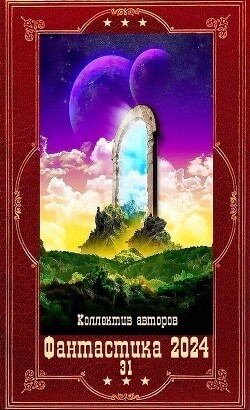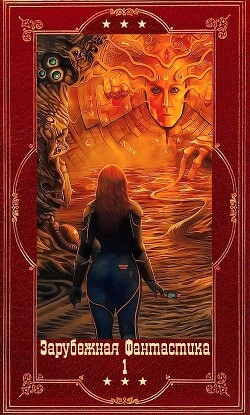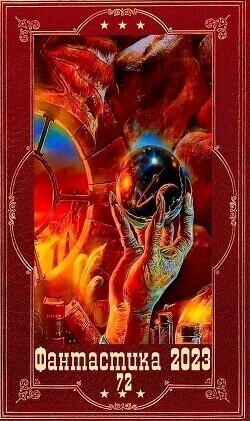Завет воды - Вергезе Абрахам
Его вышвыривают из паба, он не понимает почему. Позже Дигби оказывается в маленькой темной пивной, где пьют в суровом молчании. Втискивается в кучку парней, которые встречают его злобными взглядами. «Две пинты за папаню», — повторяет он, но, не потрудившись уйти за стол, осушает первый стакан прямо у стойки. Замечает на стене прямо перед собой сине-белый флажок, а потом видит, как эти цвета повторяются на шарфах мрачных мужиков вокруг. Твою ж мать, я в пабе «Рэйнджерс»! Он пытается сдержать смех, но безуспешно. «Долбаные „Рэйнджерс“!» — трясет он головой. Он что, сказал это вслух?
Мужик за стойкой велит Дигби убираться. У Дигби есть предложение получше: он выпьет свою вторую пинту, не сходя с места.
Кулак врезается ему в ухо. Бутылка разлетается вдребезги, и что-то острое впивается в угол рта. Хозяин обходит залитую пивом стойку и вышвыривает его на тротуар. «Проваливай, пока они не дорезали тебе улыбку до конца, а вместе с ней и тебя!» Дигби ковыляет за угол, протрезвев от осознания того, что эти молчаливые мужики могли решить, что убийство гораздо веселее попойки.
Из газетного киоска на углу на него торжествующе лыбится море одинаковых симпатичных рож. ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС ЛИНДБЕРГА, кричат заголовки. ГЕРОЙ АМЕРИКИ. Сладковатая влага, стекающая в рот, имеет металлический привкус. Рукав красный. Взгляд не фокусируется. Неужели человек в самом деле смог перелететь через Атлантику? Да! Написано же крупными буквами. На аэроплане под названием Дух Сент-Луиса. Линдберг приземлился, а его мать вознеслась. Дигби совсем не чувствует боли.
глава 11
Каста
«Путешествие расширяет сознание и облегчает кишечник». Бараний кебаб, купленный на уличном лотке в Порт-Саиде, поставил Дигби на колени, заточив на двое суток в каюте, — время вполне достаточное, чтобы оценить напутственные слова профессора Алана Элдера в Глазго. К моменту, когда Дигби оклемался, они уже покинули Суэцкий канал и проходили Баб-эль-Мандеб, Врата слез. Этот узкий пролив, едва восемнадцати миль в ширину, соединяет Красное море с Индийским океаном. С одного борта видно Джибути, с другого — Йемен. За вычетом трехмесячной командировки в Лондон все двадцать пять лет своей земной жизни Дигби провел в Глазго и мог бы остаться там до конца дней, так никогда и не увидев этого слияния вод, так и не познав, что Ла-Манш, Средиземное море, Красное море и Индийский океан, несмотря на все их различия, суть одно. Все воды едины и связаны между собой, и только земли и люди разделены. А его земля — это место, где он не может более оставаться.
Судно под его ногами вздыхает и стонет, как живое существо. Дигби бродит по палубе в широкополой шляпе, хотя она не защищает от блеска солнечных лучей, отражающихся от поверхности воды и покрывающих его лицо загаром, от чего заметнее становится бледный неровный шрам, рассекающий левую щеку от угла рта до левого уха. Изменчивый нрав и цвет Аравийского моря — лазурный, густо-синий и черный — отражают приливы и отливы его мыслей. Горизонт вздымается и опадает, соленые брызги холодят лицо, Дигби чувствует, как, стоя неподвижно на месте, он в то же время стремится к собственному будущему.
Дигби заглядывает в пассажирский салон первого класса, ему неловко от собственного любопытства, но роскошь вызывает благоговейный восторг — диваны и бархатные кресла, тяжелые парчовые шторы и раздвижные двери, пропускающие лакеев и горничных обслужить гостей. На борту судна махараджа, он и его свита забронировали весь первый класс. Дигби плывет классом ниже, у него крошечная, но отдельная каюта. А ниже есть еще два класса, и существуют они настолько отдельно, что он их едва слышит, но никогда не видит.
Волнение на море вызывает то ли морскую болезнь, то ли рецидив кебабной хвори. Если ты сам врач, трудно быть объективным в отношении собственных симптомов. Когда Дигби не появляется в столовой уже во второй раз, Банерджи, сидящий за тем же столом, заглядывает к нему в каюту — проверить, как дела.
Встревоженный видом Дигби, который с трудом может поднять голову, Банерджи возвращается с бульоном и успокоительным. Запах настойки камфары и аниса поселяется в каюте и успокаивает желудок. Банерджи — или Банни, как предложил он Дигби называть его, — около тридцати, у него детское лицо и телосложение мальчика, выросшего на молоке и сливках, не знавшего вкуса мяса; смугловатая кожа, которую он прилежно защищает от солнца, светлее, чем загар Дигби. Для барристера Банни выглядит чересчур юным, его приняли в коллегию адвокатов после четырех лет учебы в Лондоне. Путь, который он избрал, подобен пути Ганди в конце прошлого века, как сдержанно, но с гордостью отмечает Банерджи.
Когда Дигби возвращается за обеденный стол, миссис Энн Симмондс, жена районного налогового инспектора в округе Мадрас, сообщает: «Сегодня вечером утка», словно и не заметив недавнего отсутствия Дигби. На ее широком лице нет ни единого угла, ни единой ровной линии, она напоминает Дигби бульдога с влажными глазами в обвисших складках. С первого дня миссис Симмондс взялась командовать за столом, ведя себя, как пассажир первого класса, по доброте душевной решивший трапезничать с простым людом. Ежевечерне слушая ее разглагольствования, Дигби вспоминает свою трехмесячную стажировку в больнице Святого Барта в Лондоне — награда за блестяще сданный экзамен, который он сдал лучше всех на третьем курсе медицинской школы. Пока он не оказался в палатах Барта, Дигби и не подозревал, что у него есть какой-то акцент и что из-за этого люди будут считать его тупой деревенщиной. Пробуждение оказалось жестоким. Полностью избавиться от акцента он не смог, но сумел смягчить его; он прилагал огромные усилия, чтобы избегать слов и фраз, которые выдают его происхождение. Впрочем, ему все равно не удалось одурачить миссис Симмондс, которая полностью игнорировала его присутствие. И сейчас Дигби слышит, как она заявляет собеседнику, сидящему напротив: «Мы, англичане, знаем, что лучше для Индии. Вот когда вы туда попадете, сами увидите».
Позже тем же вечером Дигби прогуливается по палубе с Банни. Несмотря на зародившуюся между ними близость, политику они не обсуждают. Дигби признается в полном своем невежестве по части мира за пределами Глазго, да и вообще за пределами больницы.
— Последние несколько лет я фактически прожил в отделении. Газета могла попасть в руки, если только вдруг оказывалась под повязкой на ране или в животе, который я оперировал.
Он компенсировал упущенное, штудируя газеты в судовой библиотеке. Заголовки предупреждают о намерении Германии начать перевооружение, вопреки условиям Версальского договора. Воинственный новый канцлер обещает вывести страну из экономической разрухи. Но об Индии новостей мало.
— Ты мог бы расспросить миссис Симмондс.
— Нет уж, благодарю, — фыркает Дигби.
Банни улыбается, протирая очки и косясь на Дигби.
— Зачем ты отправился в Индию, Дигби?
Облака на горизонте выстраиваются в ровную линию. Где-то там земля. Они сейчас плывут вдоль западного побережья Индии, мимо Каликута или Кочина.
— Долго рассказывать, Банни. Я влюбился в хирургию. Был хорошим студентом, потом хорошим стажером в хирургическом отделении. Любознательным, азартным. Ответственным. Если был не на дежурстве, то болтался на «скорой», надеясь пристроиться на какой-нибудь несчастный случай. Но когда настало время поступать в хирургическую ординатуру в Глазго, оказалось, что я рылом не вышел. А если не в Глазго, то вообще никаких шансов. Поэтому я вступил в Индийскую медицинскую службу, надеясь все же стать толковым хирургом.
— Ты католик, в этом все дело? Как они догадались? — недоумевает Банерджи. — По имени?
— Нет. Мое имя может быть как протестантским, так и католическим. А вот, к примеру, Патрик, Тимоти или Дэвид — это, считай, сразу провал. Но я получил стипендию в колледже Святого Алоизия. Заведение иезуитов. Такое не скроешь. Но и без того я как будто подаю тайные знаки, на мне словно клеймо. — Дигби с сомнением смотрит на собеседника. — Уверен, это трудно понять.