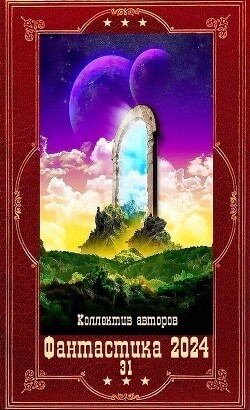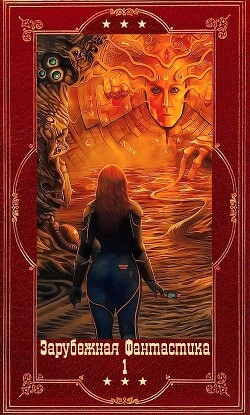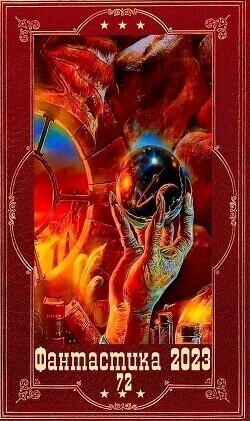Завет воды - Вергезе Абрахам
Она забыла, что надо дышать. За один вечер он произнес больше важных слов, чем за все их совместно прожитые восемь лет. Толпа людей внутри него — маленький мальчик, отец и муж — гневалась и скорбела одновременно.
Лицо его смягчается.
— Тебе нужно было найти мужа получше.
Она тянется за его рукой, но он отодвигается и выходит из комнаты.
В голове у нее все смешалось. До сих пор не было никаких признаков, что Малютка Мол боится воды. Даже если Недуг не коснулся Малютки, она будет считаться порченой, способной передать дурное семя.
Дрожащей рукой она записывает год, когда умерла мать ДжоДжо. Рисует новую ветвь, отходящую от имени ее мужа. Пишет свое имя и дату их брака, потом рисует веточку от их союза, где подписывает «Малютка Мол»; прежде чем Малютке исполнится полгода, ее покрестят, и тогда она вставит ее настоящее имя и дату рождения. Сколько ветвей пойдет от Малютки Мол, когда она выйдет замуж? «Теперь я внутри, Господь, — говорит она. — Это мой Недуг, так же как и его. Как я могу обвинять?»
Под именем ДжоДжо она пишет год его ухода. Рисует три волнистые линии, трясущимися пальцами это легко. Как жестоко, как чудовищно несправедливо, что ДжоДжо погиб от той самой стихии, которой он всеми силами старался избегать. Над волнистыми линиями она рисует крест, похожий на дерево на Голгофе, три вершины разделяются на подветви, напоминающие крест Святого Фомы, но одновременно похожие на отрубленные ветви дерева, царапающие острыми концами нёбо. Теперь она убивается вместе с матерью ДжоДжо. Я знаю, что он был твой, но и мой тоже, и со мной он жил дольше. Я так сильно любила его. Перо скользит по бумаге, с трудом втискивая округлые завитки, хвостики и петли шрифта малаялам в маленький просвет: УТОНУЛ В ОРОСИТЕЛЬНОМ КАНАЛЕ. В памяти всплывают образы совсем маленького ДжоДжо, его щербатая улыбка — если бы только она сохранила эти молочные зубы, у нее оставалась бы хоть частица от него! А он настоял на том, чтобы посадить их и вырастить бивень, а потом забыл где.
Закончив, она смотрит на лист пергамента, Водяное Древо, вот так она назвала бы его. Недуг — это проклятие? Или болезнь? А есть ли разница? Она знает семьи, где кости у детей ломаются сами собой, а белки глаз у них с голубоватым оттенком. Но потом они перерастают это и взрослыми выглядят почти нормальными. Но когда однажды двоюродные брат с сестрой сбежали и поженились, их ребенок переломал все кости, выходя из материнской утробы, и ко второму году жизни ноги его были подтянуты к телу, как у лягушки, грудь сплющена, а позвоночник изогнут. Он умер, не дотянув и до трех лет.
Она сворачивает бумагу, перетягивает свиток своей ленточкой вместо бечевки. И забирает Водяное Древо к себе в комнату. Теперь это принадлежит ей. И впредь она будет хранить и восстанавливать родословие, растолковывать и передавать дальше.
За ужином он не смотрит ей в глаза. Мать приготовила яичное карри в густом красном соусе, трижды надрезав сваренные вкрутую яйца, чтобы они получше пропитались соусом. Мама, с заплаканными глазами, ни разу не спросила, что за разговор на повышенных тонах произошел в спальне мужа за закрытой дверью.
Вечером мать и дочь молятся вместе. «Да возопиют живые и усопшие вместе: Благословен Грядый, и грядущий, и воскресит мертвых».
Потом, сняв платок с головы и баюкая Малютку Мол, ощущая пустоту там, где должен быть ДжоДжо, она чувствует себя вправе откровенно поговорить с Богом.
«Господь, возможно, Ты не хочешь исцелить эту боль по какой-то неведомой мне причине. Но если Ты не хочешь или не можешь, тогда пошли нам того, кто сможет».
Часть вторая

глава 10
Рыбка под столом
По субботам мама Дигби водила его в Гэти [52], лучшее место Глазго. Годы спустя при воспоминании о тех днях нос его будет чесаться, как будто он вновь вдыхает запах чистящего средства, исходящий от кресел. Но даже эта едучая жидкость не могла перебить вонь стоялого табака, которой были пропитаны стены и пол.
У Джонни, продавца билетов в театре, после его боксерских боев в прошлом глаза смотрели в разные стороны. Он больше не указывал, что десятилетнему мальчику не стоит посещать шоу в варьете. Представление открывали танцовщицы, и мамина ладонь прикрывала глаза Дигби, пока не появлялся второразрядный фокусник. Мушки перед глазами Дигби продолжали плавать вплоть до следующего действия, которым обычно бывали шпагоглотатель или жонглер.
После антракта публика, изрядно принявшая на грудь крепкого, становилась более шумной и менее снисходительной. Дым от самокруток сгущался плотнее, чем утренний туман над Клайдом. Комики выходили на сцену, точно гладиаторы, но размахивая сигаретами вместо жезлов. За восемь минут сигарета догорает до окурка, обжигающего пальцы, и ровно столько они должны были продержаться на сцене. Большинство освистывали уже через пять.
Мама все это время сидела с каменным лицом, мысли ее витали далеко, и это всегда пугало Дигби. Вспоминала, как сама выступала на сцене? Она ведь отказалась от актерской карьеры и, возможно, славы, потому что он должен был появиться на свет. Или думала о мужчине, с которым встретилась здесь, о том, кто разрушил ее жизнь? Дигби разглядывал артистов. Отца он никогда не видел, но Арчи Килгур был из их племени — колесят по городам, в каждом городе они завсегдатаи одних и тех же пабов (в Глазго это «Сарри Хейд»), лица трактирщиков знакомы им лучше, чем лица собственных чад, а на ночлег они устраиваются в какой-нибудь театральной норе, вроде пансиона миссис Макинтайр. Мама однажды рассказала Дигби, как Арчи Килгур приколотил кусок копченой селедки под столешницей обеденного стола, когда миссис Макинтайр отказала ему в кредите. Дигби спросил, а почему под столешницей. «Ну глянь-ка сам, Дигс. Это же распоследнее место, куда суваться будут, коли завоняет. Во всем он такой. Пластается так, ублюдок, что под брюхом у змеи просквозит и шляпы не снимет».
Кто-то говорил, что Арчи уплыл в Канаду, другие — что никуда он не уезжал. У Арчи Килгура настоящий талант исчезать. Все, что Дигби о нем знает, — папаша его был из тех людей, что оставляют под столом пришпиленную рыбину, а Дигби он оставил пришпиленным к материнской утробе. Дигби думает, что и в других городах, где гастролировал отец, у него наверняка имеются братья и сестры: в Эдинбурге и Стирлинге, Данди и Дамфри, в Абердине…
Представление всегда завершалось зажигательной «Для каждого солдата есть девчонка», и песенка все еще звучала в ушах Дигби, когда они выходили из зала. Он радостно взбудоражен и будто парит над землей — точно сделался легче воздуха и мечтал, чтобы и мамуля чувствовала то же самое.
Дигби казалось, что никогда в прежние времена жизнь не была такой захватывающей, как нынче. Братья Райт совершили первый полет на аппарате тяжелее воздуха в 1903 году, но, как знает каждый шотландский школьник, вскоре то же самое повторили братья Борнуэлл в парке Козуйхед. Дигби мечтал управлять бипланом, а еще лучше — самому стать легче воздуха! Тогда он прокатил бы мамулю над Глазго и улетел с ней далеко-далеко. И она смеялась бы. И гордилась им…
По средам они устраивали себе угощение: чай в Гэллоугейт [53]. Дигби ждал, пока мама и толпа из тысяч других «зингерш» вывалится за ворота фабрики по окончании смены. Продди [54] появлялись первыми. Католики, к которым относится и его мама, выходили за ними; им платили меньше, и работа у них тяжелее. Ее мастер был из продди и болельщик «Рэйнджерс» [55], разумеется. Глазго, как большинство шотландских городов, жестко разделен по религиозному принципу. Его деда с бабкой занесло сюда с Ирландской волной, случившейся после Голода [56], которая превратила Ист-Энд в цитадель католицизма в Глазго (и базу футбольной команды «Селтик»).