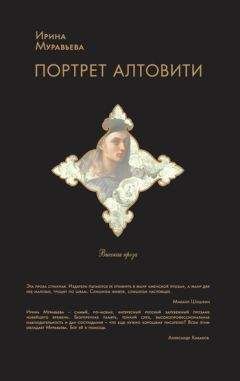Ирина Муравьева - Холод черемухи
Алиса Юльевна торопилась на Смоленский рынок, где в сумерках раннего утра уже шла торговля. Толкались, меняли, кричали, хрипели. Бывало, дрались. Рынок был полон слухов, сплетен, страхов и предсказаний. Алиса замирала от того, что просачивалось под её чёрный беретик, когда она, крепко ступая по растаявшему снегу, проходила через людские связки, гроздья и узелки.
– А говорят, к нам на Москву пленных австрияков везут! – вдруг подымалось в воздух из какого-нибудь оголтелого, охрипшего горла, и словно бы лопался мыльный пузырь: вокруг начали шуметь, волноваться.
– И что с ними делать? Самим-то жрать нечего!
– А что с ними делать? Порезать их всех! Правительства нету, так кто за них спросит? Порезать, покласть. Пусть гниют!
– А правда! Порезать, покласть. Больше нечего делать.
Алиса Юльевна вынимала свой товар.
– Часы, что ли, бабка? – останавливалась перед ней миловидная, по всему видать, сытая с самого утра молодайка. – А ходют?
Алиса холодно и отстранённо демонстрировала, как ходят её швейцарские, оставшиеся от покойного отчима часы. Молодайка, раздвинув румяные губы, подносила раскрытую серебристую раковинку к высунутому из платка толстому, красному уху: часы мелодично и сдержанно тикали. Потом расходились: довольная Алиса с большим куском сала и копчёной рыбиной в промасленной бумаге и плавная, широкобёдрая молодайка, не стёршая с губ своих сытой улыбки.
В восемь, когда в докторском доме на Плющихе вставали и зажигали свечи и доктор, обжигаясь кипятком с сахарином, на ходу просматривал утреннюю газету и набрякшие усталостью глаза его наполнялись изумлённым ужасом, Алиса Юльевна возвращалась, слегка разрумянившись и запыхавшись.
Садились за стол. Завтракали при свечах – солнце словно бы боялось восходить и, не желая глядеть на эти голодные очереди у хлебных лавок, на эти обгоревшие и разрушенные дома с их вытекшими глазами, мутно-голубоватыми, с кривыми, разбитыми форточками, на этих худых лошадей, столь покорных, что только совсем уж дурной человек мог вдруг ощутить что-то вроде восторга, ударив такую покорную лошадь, – не желая смотреть на это, солнце восходило поздно и медленно, дрожало, раздвинув тяжёлое облако, и тут же под всяким пустячным предлогом опять погружалось в сонливое небо.
Сегодня, в ночь на среду, Таня не сомкнула глаз. Александр Сергеевич, которого она почти и не видела со дня революции и знала только, что сын его, молодой Василий Веденяпин, вернулся с войны, вчера пришёл прямо к ним домой, с парадного входа, как будто так можно, попросил, чтобы Алиса Юльевна, которая, повязанная косынкой, сжимая в руке половник, поспешила ему навстречу, позвала бы из детской Таню, и тут же, не снимая пальто и шапки, вручил испуганной Тане билет на оперу «Пиковая дама» в Большом театре. И нынче должна была быть эта опера. Телефоны давно не работали, встречи их давно прекратились. Несколько раз за эту зиму она видела его в сквере: Александр Сергеевич подлавливал её, когда Таня гуляла с Илюшей. Он был всякий раз сильно пьян, но никто, кроме Тани, знавшей его с тою же доскональностью, с которой она знала только себя и только Илюшу, – никто, кроме Тани, не понял бы этого.
Резко, до голубизны, бледный на морозе, он близко подходил к ней и наклонялся к её лицу.
– Ты что, разлюбила меня? – спрашивал он.
– Нет, очень люблю, – отвечала она. – Зачем ты говоришь такое?
– Я всю жизнь только и делал, что терял, – усмехался Александр Сергеевич. – Я даже тебя готов потерять. Тем более что сейчас все теряют друг друга.
Таня отворачивалась и крепче впивалась пальцами в Илюшин воротник.
– Васька ничего не делает, только спит. – Александр Сергеевич криво усмехался. – Мы его не трогаем. Не думал не гадал, что сын мой станет моим пациентом. Теперь нужно дать ему выспаться. Он спит, будто это и не сон, а глубокий обморок. Я ночью встану, подойду, слушаю, как он дышит. Зубами скрипит. Это плохо. Мы боимся спрашивать, как он вернулся, почему. Она подозревает, что он дезертировал. Но документы его я видел, документы в порядке. Сам чёрт ногу сломит…
При слове она Таня закусывала губу.
– Мне иногда снится, – сказал он однажды и рукою в вязаной перчатке опёрся о мёрзлое дерево. – Мне снится, что мы с тобой входим в церковь, и ты зажигаешь свечку, тянешься, чтобы поставить её, и вдруг я вижу, как загорается край твоего рукава. И ты начинаешь гореть. Хочу подбежать к тебе, накрыть этот огонь, погасить его, а двинуться не могу. Ноги прилипли к полу. Хочу закричать, церковь-то полным-полна, а никто не обращает внимания, что ты горишь. Мне бы закричать, помощи попросить, а я не могу, во рту – какие-то сухие волосы, гадость. Такой вот кошмар.
Она смотрела на него сквозь сырой зимний воздух, сквозь сумерки с мелкими кровавыми прожилками то ли небесного заката, то ли революционных лозунгов, она замирала от любви к нему, от острого, непроходящего отчаяния, которое наступило в день самой их первой встречи, и, как всегда, не могла и не знала, чем ответить на эти его слова, потому что она привыкла подчиняться ему, и, пьяному или трезвому, вдовцу или женатому, жаждущему её или почти чужому, она ему не возражала ни в чём.
Вчера вот пришёл – очень бледный, уставший, – отдал ей билет и сказал, что встретятся вечером прямо в театре. Она не спала нынче целую ночь.
Ночами людей убивали. Несмотря на наступающую весну, ночи продолжали быть морозными, и нежно ползло серебро дымных звёзд на голые спины убитых, и снег засыпал мёртвые разинутые рты, закатившиеся глаза с мутными белками и руки, которые лежали на снегу всегда как будто отдельно от человека, так что, когда собирали тела, чтобы бросить их в кузов уже нетерпеливо ревущего и пахнущего кровью грузовика, эти длинные, свободно болтающиеся руки мешали товарищам, которые торопились быстрей погрузить мертвецов и свезти их на свалку.
Товарищи жили в тяжёлом ознобе. Сначала – идея, потом – кокаин. И дел – свыше меры. Сказал же один, поэтичный товарищ, про музыку этой родной революции. Как в воду глядел. Было музыки много. Вот, например, выгнали монахов лёд колоть на Петровке. Чем не музыка? Скользко, звонко! Колите, мерзавцы! Не всё за иконками прятаться! Идут мимо гимназистки, облепленные снегом, глаза свои детские прячут: неловко смотреть. Старики, голодные, ноги босые, бороды растрёпаны, все в чёрном – монахи! – и вдруг: колют лёд. За Мясницкими воротами мерцают золотом церкви. Солдаты в обтрёпанных шинелях – кто с царской саблей на боку, кто с дикого размера револьвером – лузгают семечки, яростно плюют шелуху в серебристые от подтаявшего снега лужи. Шипучие звуки солдатской слюны – не музыка разве? А то и погромче: знамёна, плакаты и сотни прокуренных глоток: «Вставай, подымайся, рабочий народ!» Как тут не подымешься? Разве заснёшь?