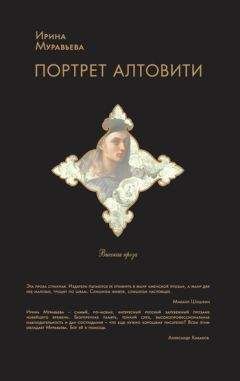Ирина Муравьева - Холод черемухи
Николай Михайлович блеснул измученными, красными зрачками.
– Ника! – с сердцем воскликнула Дина Форгерер. – Мы ехали с тобой в свадебное путешествие на три месяца, ты помнишь? А как это всё затянулось! Ты меня всеми правдами и неправдами удерживаешь здесь, ты лжёшь мне, что я в любую секунду могу перебраться в Россию, а я уже не могу! Туда уже не доберёшься!
– На что же ты в таком случае надеешься? – прошептал Николай Михайлович.
– Оденься! – закричала Дина. – Прикройся хотя бы! Не могу я говорить с тобой о серьёзных вещах, когда ты расселся здесь, как… как фавн какой-то! Да, именно: фавн!
– Не фавн, а муж твой! – повысил голос Николай Михайлович.
– Мужья иногда тоже ходят одетыми! – вспыхнула она. – Не всё на кроватях валяются!
– Прости, я увлёкся, – пробормотал Николай Михайлович, натягивая на себя простыню. – Вернёмся, однако же, к делу: когда ты желаешь уехать? Я должен ответ дать театру. Меня ждут в Берлине.
– При чём же здесь ты? – округляя глаза, спросила она. – Ты можешь приступить к работе, и это прекрасно, что ты начнёшь работать, Ника, и, кроме того, если подтвердится, что тебя приглашают сниматься, то это просто спасение для нас, потому что с твоими этими широкими замашками, почти как у моего покойного отца, с твоими замашками, Ника, у нас никаких денег не осталось, тебе очень нужно работать, ты сам говорил, что актёр – не профессия, а образ мышления, правда? Не образ, а, кажется, способ? Неважно! Но нужно работать, а то потеряешь мышление. И кто ты тогда? Без мышления?
Она не выдержала и фыркнула. Потом вынырнула из своего пледа и села на корточки перед понурившимся Николаем Михайловичем.
– Ну, Ника! Ну, что ты молчишь?
– Я люблю тебя, – хрипло и совершенно не к месту сказал Николай Михайлович Форгерер. – Я болен тобою.
Она побледнела, поднялась и снова села на потёртое кресло.
– Я с тобой не могу разлучаться, – сказал он и, оторвав руки ото лба, посмотрел на неё.
Она знала о нём – всё. Так было даже проще: рассказать ей целую жизнь, прижавшись к её тонкой шее, дыша этим пагубным запахом, вечно струящимся от неё, запахом черёмухи, который, может быть, никто, кроме него, и не ощущал, а он ощущал в такой силе, что всякая, даже самая незначительная мысль о ней наполнялась этим запахом, как будто бы в комнату вносили целую охапку мокрых от дождя, пушистых белых цветов, и он рассказал, лёжа рядом с ней, повернувшейся к нему спиной, вжимаясь в неё и принимая в темноте форму её тонкого тела («spoon like», – говорят англичане), он ей прошептал свою жизнь, а она молчала, впитывала, слушала, потом вздыхала осторожно и горестно, поворачивалась к нему и пристально изучала его мелко дрожащее от всех откровенных признаний и словно бы с содранной кожей лицо. Она не только знала о нём всё, она знала главное: Николай Михайлович Форгерер потерял волю. Дина, его молодая жена и, в сущности, собственность (как же иначе?), была ему слишком, смертельно нужна.
Нужно было запретить ей эту поездку. Или ехать с ней самому. Но это безумие – ехать в Россию, потому что тогда контракт на театральный сезон в Берлине лопнет. Удержать её нельзя.
Николай Михайлович Форгерер обеими руками зажал сердце: оно было слева под кожей, и он ощущал его вязкую тяжесть.
– Я жить без тебя не могу, – сказал он. Сердце обожгло изнутри грудную клетку и левую верхнюю часть живота, плеснув кипятком, словно из самовара. – Я жить не могу.
– Знаю! – отчаянно и одновременно холодно, словно ей нужно было быстро победить его, быстро вылечить, быстро обезоружить, ответила она. – Я только возьму их и сразу вернусь. Они без меня там погибнут.
– А я?
Он встал во весь рост. Простыня упала на пол. Дина быстро и холодно посмотрела на него и сразу же отвернулась.
– А ты ведь не любишь меня, – тихо сказал Николай Михайлович.
Она слегка поморщилась.
– И это нормально, – сказал он. – Так не бывает, чтобы двое любили одинаково. Ты позволила мне любить себя, и я благодарен за это.
– Послушай! – вскрикнула Дина. – Ну, что ты всегда о себе? Они там погибнут! Пока ты здесь, голый, объясняешься мне в любви, им есть уже нечего! Там ведь ребёнок! Там маленький мальчик! Ну, как же не стыдно?
Он был сейчас маленьким мальчиком. Он был младенцем, которого извлекли из тёплого материнского лона, из этой воды животворной, поймали, как неводом ловят покорную рыбу, и бросили на берег, плоский и чёрный.
Николай Михайлович знал, что решение принято и разговор закончен, но одновременно с этим он знал, что сейчас она уже раскаивается в том, что так грубо и безжалостно оборвала его, и, может быть, ей даже хочется приласкать его, задобрить, успокоить, укрепиться в своей этой власти над ним, обнажённым, горячим и полностью преданным ей человеком.
– Иди ко мне, – хрипло попросил он. – Всё будет, как скажешь.
Она умоляюще и испуганно посмотрела на него. Это была та мелкая, как бы и незаметная посторонним (случись в этой комнате вдруг посторонние!), доля секунды, когда ещё можно было отказать ему, потому что, если он возьмёт её на руки и потянет обратно в эту развороченную кровать, отказывать будет нельзя, слишком поздно, и там начинается сразу туман – туман, чернота и огонь во всём теле, и он там – хозяин, – нельзя, о, нельзя отказать, слишком поздно….
Никто и подумать не мог, никто и не догадался бы, какие способности откроются у тихой Алисы весною 1918 года. А что было делать? Алису терзала любовь. Их всех нужно было кормить: и Тату, и мальчика, и самого доктора, который чернел на глазах, и поникшую няню, которая то засыпала в слезах, то в тех же слезах просыпалась.
Алиса Юльевна вставала в рассветных сумерках, в зеркало смотрелась по привычке, по той же привычке приводила себя в порядок: расчёсывала волосы, туго скручивала их узелком на затылке, умывалась ледяною водой – всё стало как будто вокруг ледяным, всё, кроме любви и тревоги, – надевала стоптанные, но ещё крепкие башмаки, длинное, потёртое, крепкое пальто, берет на свою беспокойную голову и тенью – не русской размашистой тенью, но стройной, худою, сухою, спокойной, как быть и должно, потому что Алиса в себе не имела ни капельки русской, несдержанной крови, а только чужую, немецкую кровь с лёгкой примесью шведской, – да, тенью, боясь потревожить их сон, она выскальзывала из дому и шла на добычу. Она шла на добычу, как из лесу рано выходит волчица и, потупив жёлтые, янтарные, умные глаза свои, идёт по дороге, ведущей в деревню, где можно украсть молодого ягнёнка, пушистую кошку, а то и собаку (поскольку собака – не волк, волк сильнее!), украсть, приволочь уже задушенное, но ещё тёплое, парное существо голодным волчатам, которые, разевая розовые, шелковистые, но столь ещё детские рты, её заждались там, в чащобе, в берлоге.