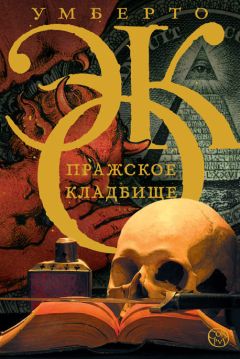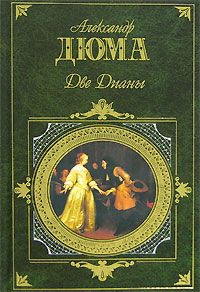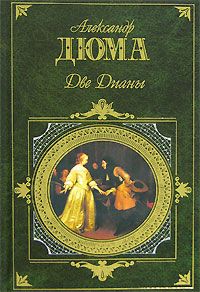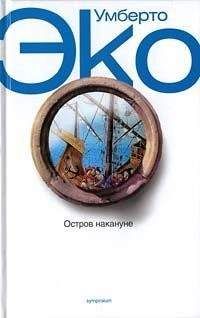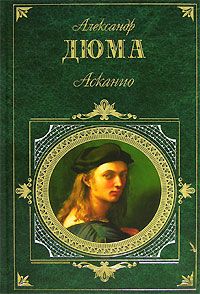Владимир Сорокин - Лёд
Ей приснилась Любка Кобзева, которую зарезали в мотеле «Солнечный». Они с ней на кухне той самой квартиры на Сретенке, которую Любка снимала пополам с Козой-Дерезой. Николаева сидит у окна и курит. За окном зима, идет снег. На кухне холодно. Николаева одета по-летнему легко, но в высоких серых валенках. А Любка – босая и в синем халате. Она суетится у плиты и готовит свои любимые манты.
– Все-таки какая я дуреха, – бормочет она, разминая тесто. – Дала себя зарезать! Надо же…
– Больно было? – спрашивает Николаева.
– Да нет, не очень. Просто страшно, когда этот козел на меня попер с ножом. Я прямо вся оцепенела. Надо было в окно прыгать, а я, дура, смотрю на него. Он – раз мне, сначала в живот, я даже не заметила, а потом в шею… и сразу – кровища, кровища… слушай, Аль, куда я перец поставила?
Николаева смотрит на стол. Все предметы видны очень хорошо: две тарелки, две вилки, нож с расколотой ручкой, терка, солонка, скалка, мука в пакете, девять кругляшков из теста. Но перечницы нет.
– Так всегда, когда надо что-то – запропастится, и все… – ищет везде Любка. Наклоняется. Заглядывает под стол.
Николаева видит в распахивающемся вороте ее халата грубо зашитый продольный разрез от шеи до лобка.
– Вон он… – замечает Любка.
Николаева видит перечницу под столом. Наклоняется, берет, передает Любке. И вдруг очень остро ощущает, что в груди Любки НЕ БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ. Любка говорит, бормочет, двигается, но сердце ее неподвижно. Оно стоит, как сломанный будильник. Николаеву охватывает ужасная скорбь. Но не от мертвой Любки, а от этого остановившегося сердца. Ей ужасно жалко, что сердце Любки мертво и НИКОГДА больше не будет биться. Она понимает, что сейчас разрыдается.
– Люб… а ты… лук в фарш кладешь? – с трудом произносит она, приподнимаясь.
– На хер он нужен, когда чеснок есть? – Любка внимательно смотрит на нее мертвыми глазами.
Николаева начинает всхлипывать.
– Чего ты? – спрашивает Любка.
– Ссать хочу, – лепечет непослушными губами Николаева.
– Ссы здесь, – с улыбкой говорит Любка.
Рыдания обваливаются на Николаеву. Она рыдает о ВЕЛИЧАЙШЕЙ ПОТЕРЕ.
– Люб…ка… Люб…ка… – вырывается из ее губ.
Она хватает Любку, прижимает к своей груди. Любка отводит холодные, испачканные мукой и тестом руки:
– Чего ты?
Ледяная грудь Любки БЕССЕРДЕЧНА. Николаева рыдает. Она понимает, что это уже НИКОГДА не исправить. Она слышит удары своего сердца. Оно живое, теплое и УЖАСНО дорогое. Ей от этого еще больней и горше. Она вдруг понимает, как ПРОСТО быть мертвым. Ужас и скорбь переполняют ее. Горячая моча струится по ногам.
Николаева проснулась.
Лицо ее было в слезах. Тушь ресниц потекла.
Рядом с ванной стоял Андрей в красно-белом махровом халате.
– Ты чего? – недовольно спросил он.
– А? – всхлипнула она. И снова разрыдалась.
– Чего случилось? – сонно нахмурился он.
– Мне… это… – всхлипывала она, – подружка приснилась… она… ее… убили полгода назад…
– Кто?
– Да… какие-то торгаши с рынка… азера какие-то…
– Ааа… – почесал он грудь. – Слушай, я спать хочу. У меня завтра стрелка важная. Деньги в кухне на столе.
Он вышел.
Николаева вытерла слезы. Вылезла из ванны. Глянула в зеркало:
– Господи…
Долго умывалась. Вытерлась. Завернулась в большое полотенце. Вышла из ванной.
В квартире был полумрак. Из спальни раздался храп Андрея.
Николаева на цыпочках прошла в спальню. Нашла свои вещи. Прошла на кухню. Здесь горела только лампа в вытяжке над плитой. На столе лежали двести долларов.
Николаева оделась. Убрала деньги в кошелек. Выпила стакан яблочного сока. Вышла в прихожую. Надела плащ. Вышла из квартиры. Осторожно захлопнула за собой дверь.
Верхняя губа
2.02.
Съемная квартира Комара и Вики. Олений вал, д. 1
– Кулаком поработай слегка. – Комар перетянул предплечье Лапина жгутом.
– Чего ему работать – и так все на виду, – усмехнулась Вика. – Мне б такие веняки!
– Комар, сука, меня первой вмазал бы! – зло смотрела Илона.
– Гостю – первый квадрат, ёптеть. Тем более – он банкует… – Комар попал иглой в вену. – Бля, сто лет не видал незапоротых канатов.
– Илон, а ты чо, правда на «Ленинграде» была? – спросила Вика.
– Ага… – Илона смотрела на руку Лапина.
– Угарно?
– Ага.
– А чего они давали? Старое?
– Старое! Старое! Старое!.. – зло затрясла кистями Илона.
Комар потянул поршень на себя: 27 лет, бритоголовый, большеухий, худой, сутулый, длиннорукий, с сильно заострившимися чертами лица, в рваной синей майке и широких черных штанах.
В шприце показалась кровь. Комар дернул конец завязанного жгута. И плавно ввел содержимое шприца в вену Лапину:
– Дома.
Вика протянула кусочек ваты: 18 лет, смуглая, маленькая, пухловатая, длинноволосая, фиолетовые брюки из полиэстера, голубая водолазка.
Лапин прижал вату к вене. Согнул руку в локте. Откинулся на замызганную подушку:
– Ой, бля…
– Ну? – улыбнулся Комар.
– Да… – с трудом разлепил губы Лапин и улыбнулся. Смотрел в потолок с ржавыми потеками.
– Комар, сука, ты вмажешь меня, наконец?! – вскрикнула Илона.
– Нет проблем, мадам. – Комар распечатал новый шприц.
Вика высыпала в столовую ложку белый порошок из пакетика, добавила воды, вскипятила ложку над свечой. Комар набрал из ложки в шприц полупрозрачной жидкости.
Илона сама перетянула себе жгутом предплечье. Села напротив Комара. Протянула руку. На сгибе виднелись редкие следы от инъекций.
– Илон, так я не поняла, они все старое давали? – закурила Вика.
– Не, не только… – раздраженно сжимала и разжимала кулак Илона.
– «Вот будет лето, поедем на дачу. Лопату в руку, хуячим, хуячим»? Да?
– Да, да, да… – зло бормотала Илона.
– А мне нравится у них: та-та-та… кто-то колется, я лично – бухаю, но могу ускориться.
Комар не торопясь нашел место:
– М-да, рыбка, хорошо, что ты не злоупотребляешь.
– Чо я, дура, что ли? – нервно усмехнулась Илона.
– Кто вас, женщин, разберет! – Игла вошла в вену.
Лапин улыбался. Потянулся. Повел плечами:
– Все-таки… это совсем другое…