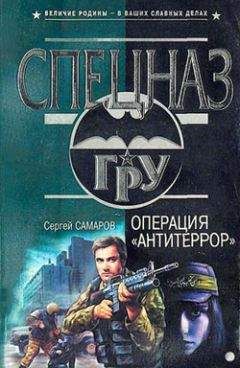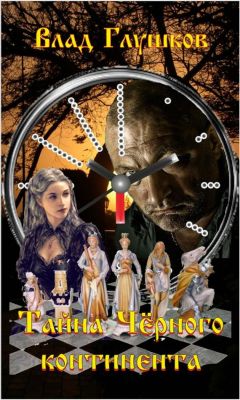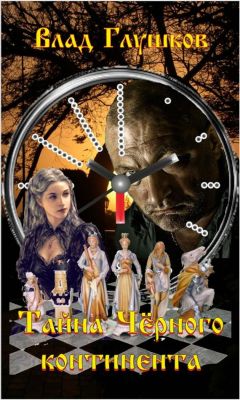Олег Суворинов - Петербург-Ад-Петербург
- Мне, знаете, и поговорить не с кем. Мать почти не разговаривает…
- Дима,- перебил Иван Тимофеевич,- а кто же сейчас с твоей мамой дома?
- А... Это? Да вы не беспокойтесь, Иван Тимофеевич, с ней моя двоюродная сестра, Валентина – святой человек. Она периодически приезжает к нам из В... ,- (после непродолжительной паузы),- и…и…и ещё к…к…кое-что…- Родин наклонился и уставился в пол. Я даже немного испугался.
- Что, что ещё?- взволнованно частил Иван Тимофеевич.
- Сейчас, подождите секунду,- в этот момент он и в самом деле плакал.
Картина перед моими глазами была ужаснейшая. Мне до этого момента никогда не приходилось видеть настолько угнетённых, потерянных и убитых горем людей, как Дмитрий Родин. Он уже не казался тем героем, которым был несколько часов назад в кафе. Сейчас он сам нуждался в поддержке и помощи.
- Так вот, шесть или семь лет назад,- спокойно начал Родин,- я встретил девушку. Она мне так тогда понравилась, до того она была хороша, что я почти сразу в неё влюбился. В это создание просто невозможно было не влюбится! Ей было двадцать. У матери тогда состояние стабилизировалось; врачам при помощи лекарств удалось стабилизировать его...
- А как звали девушку?- поинтересовался я.
- Валерия,- ответил Родин с видимой злобой на лице.
Я не понял приступа злости. Родин продолжал:
- Не буду расписывать начало наших отношений, а перейду сразу к делу. Лера, вскоре забеременела от меня и мы, недолго думая, решили расписаться. Мать была от этой новости на седьмом небе от счастья: очень часто представляла себе, что когда окончательно поправится, будет играть с моим малышом, своим внуком. Так и произошло. Лера родила здоровую девочку – мы назвали её Анастасией. Мать будто бы заново родилась, увидев свою прелестную внучку.
Я заметил, что Родин ломает свои воспаленные руки.
- Ну что уж греха таить, я с отцом своим отношения поддерживал в то время и естественно решил, что он должен увидеть свою внучку. Во всё, что я расскажу дальше весьма сложно поверить, но это чистая правда. Я уже упомянул о сыночке этой Жанны. С моим отцом они детей так и не нажили, поскольку она сделала неудачный аборт, после которого стала недетородной. Так вот. Сыночек её весьма подрос и возмужал. Мы стали очень часто к ним наведываться, ездили с ними вместе по выходным в деревню (у отца там дом), вообще всё было хорошо. Я в тот момент был счастлив несказанно. Мне казалось, что жизнь налаживается и всё худшее позади. Мать моя уверенно шла на поправку, болезнь немного отступила: она даже ходила гулять и с радостью и задором занималась с моей Настенькой. Но когда Настеньке исполнилось пять лет, произошло событие, которое и представить себе невозможно. Моя любимая жена Лера, заявляет мне, что уходит от меня к другому!
- Да как же это!- с видом потрясённого человека протянул Иван Тимофеевич.- Это не может быть!
- Может, ещё как может. И как вы думаете, к кому она решила уйти, на кого меня променять – на этого самого Серёжечку, сыночка этой стервы Жанны. Ему тогда двадцать шесть лет было. Этому уже год прошёл.
- Дима, да как же это может быть?! Я ушам своим не верю! Чёрт меня дери!- моему возмущению не было предела.
- Хватит тебе чертыхаться, Герман,- дернул меня за рукав Иван Тимофеевич.- И что же дальше было?
- А ничего. Она собрала свои вещички и переехала к нему; он жил в одной квартире с отцом моим и Жанной. Переехала, потом подала на развод, и суд решил, что ребенку с ней, с этой шлюхой будет лучше. Она заявила, что я никудышный отец, мужчина–неудачник, который постоянно перебивается случайными заработками, имеющий на руках больную мать и, при таких стесненных обстоятельствах, неспособный воспитывать ребенка. Суд был, как впрочем и всегда в России, на стороне матери! Вот так. Вы можете себе это представить или нет?
Ответа ни от кого не последовало. Родин продолжил:
- После суда, почти через неделю, у моей матери внезапно ухудшилось самочувствие, начался тот самый злополучный рецидив, от которого она уже, скорее всего, не поправится! Ее страшная болезнь вернулась и ударила по ней с удвоенной силой. Они – эти сволочи, убили её, будь они все прокляты!- Родин кричал как умалишенный,- пусть только вернут мне мою дочь! Вернут мне до-о-очь!
- Дима, Дима, тише, прошу тебя упокойся,- бросился я к Родину. Он оттолкнул меня и ещё громче прокричал,- я после этого готов хоть кому, даже самому дьяволу продать душу, взамен на то, чтобы всё вернуть назад! Она уже год живёт с этим прохвостом и за целый год не дала мне встретиться с моей дочерью ни единого раза, потаскуха!- Родин опустил свою разгоряченную голову на стол, и замолчал. Было слышно, как бьётся его сердце.
- Герман,- шёпотом сказал Иван Тимофеевич,- пусть он успокоится. Ничего не говори.
Вместе с возбужденным, бурным и трагичным рассказом Дмитрия Родина закончилась и буря, так неистово бушевавшая несколько часов подряд, не переставая. Я сидел на диване, поражённый, и смотрел на не шевелящуюся фигуру Родина, который будто бы застыл в том положении, которое принял тотчас после своей ужасающей исповеди. Иван Тимофеевич молчал и, не отрываясь, смотрел куда-то в пустоту - его глаза были полны скорби. Он впал в свою тайную задумчивость. За окном треснувшее небо роняло последние лучи заходящего солнца, которые отражались в оконных стёклах соседнего многоэтажного дома. Словом, всё вокруг затихло. Часы, висевшие на стене, уже не так пронзительно стучали: казалось, что они вдруг стали намного тише идти и не так сильно действовали мне на нервы, колыхая своим старым маятником.
Мысли в моей голове плыли мягким, непрерывным потоком.
- Иван Тимофеевич, мне надо с вами поговорить, да и вам со мной, я чувствую, тоже,- шептал я. – Давайте уложим Диму в мою комнату, а сами поговорим на кухне. Со мной что-то неладное происходит. Я не могу этого объяснить. Пойдёмте, прошу вас.
- Хорошо,- согласился старик. И добавил: - Бог знает, что такое…
6
- ...Иван Тимофеевич, я люблю это создание, люблю до глубины души. Я с ума схожу. Поймав её мимолётный взгляд, брошенный на меня, я после целый день нахожусь в каком-то страстном томлении и уже более не могу ни о чём думать. Вся моя душа рвётся к ней. Она просто создана для счастья, и я почти уверен в том, что сумею ей его подарить. Что до сегодняшнего случая, то меня вынудил совершить его бесноватый Жабин – недоумок! Что, если она меня теперь и видеть не пожелает? Если это произойдет, я даже не могу себе представить, что со мною будет!.. Я точно сойду с ума! Меня ужасно мучает мысль о том, как я посмотрю теперь Кате в глаза, как пройдёт наша первая встреча, а она непременно состоится, ведь завтра я пойду в редакцию... Что же мне ей сказать? Вы понимаете мои чувства, Иван Тимофеевич? Ответьте мне, ведь мне больше не у кого спросить совета, вы единственный человек, который есть у меня в этом городе. Подсознательно я чувствую, что советов здесь не может быть никаких.
- Герман, я прекрасно тебя понимаю, ведь я уже прожил жизнь и жизнь весьма неплохую. Пусть жена не одарила меня возможностью иметь детей, но взамен она дала мне такую любовь, о которой можно только мечтать! Царство небесное моей Риточке, покойся с миром, дорогая моя! Более не скажу ни слова, - сказал Иван Тимофеевич и пригладил ладонь волосы на затылке.
Мне стало намного свободнее. Я излил душу и ощутил понимание и поддержку со стороны человека, который за столь короткий промежуток времени стал мне очень дорог. Молчание убило бы меня. Но теперь мне стало легче. Я был совершенно уверен, что старик меня понимает и сопереживает мне по-отечески. От осознания этого мне стало немного теплее на душе и легче на сердце.
Откровенно говоря, мне очень хотелось рассказать Ивану Тимофеевичу о Константине Константиновиче и о невероятном совпадении с его сестрой. Мне все это казалось почему-то очень странным. Но я промолчал…
Мы сидели на кухне уже почти три часа, с тех самых пор, как оставили Родина отдыхать. Он спал в гостиной мертвецким сном после своей исповеди, лишь изредка похрапывая. Уложив его на диван под часами, мы, как я уже сказал, отправились на кухню, дабы обсудить проблему, затрагивающую исключительно меня.
На кухонных часах было уже половина десятого. Верхний свет был погашен, освещение давало горевшее над столом бра. От его света всё становилось ещё мрачнее: и старая кухонная мебель, больше походившая на рухлядь, и замызганные занавески, всегда сдвинутые в одну сторону, обнажавшие облупившуюся оконную раму, и даже Иван Тимофеевич казался старше своих лет под этим тусклым светом. Его многочисленные морщины, которыми было покрыто лицо, под этим светом будто бы стали более объемными и глубокими.
За окном всё утихло. Сквозь стекло было видно темное безоблачное ночное небо. У соседей сверху монотонно, пронзительно и надоедливо выла собака, видимо, не очень любящая одиночество. Хозяева её уехали ещё неделю назад, оставив Ивану Тимофеевичу ключи, чтобы он кормил и выгуливал их пса. Старику это, конечно, не очень нравилось, но он не мог им отказать – добрейший был человек. Пес любил его, почти как своих хозяев: видя, что Иван Тимофеевич пришёл, он сразу начинал радостно взвизгивать и ластиться к нему, а потом непременно ложился на спину, сгибал свои мохнатые передние лапы кверху, выпрашивая тем самым хоть немного ласки, так ему недостающей.