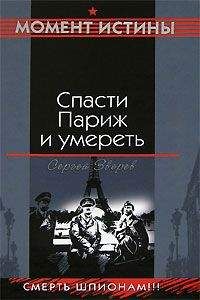Владимир Порудоминский - Короткая остановка на пути в Париж
...«Вам нехорошо?». Фрау Бус, включив свет, подплыла к Профессору. Он сидел на кровати, еще не одолев страха, его сковавшего, видения сна мельтешили перед глазами, сердце колотилось так, будто хотело взломать грудную клетку. Он увидел себя со стороны: костлявый старик с приоткрытым от ужаса и отчаяния пустым ртом (вставные зубы мокли в стакане с водой на тумбочке возле кровати), взлохмаченные седые волосы, руки, некогда красивые, а теперь — ломкая пергаментная кожа, крупные пятна стариковской гречки,
темно-лиловые набухшие вены. Ему, по обыкновению, было стыдно, что фрау Бус видит его такого, но при этом хотелось одного только, — чтобы фрау Бус обняла его за плечи, укладывая на подушку, как всегда это делала, и он на мгновение прижался бы к ее огромной мягкой груди, почувствовал бы запах ее большого теплого тела. В это мгновение в нем пробуждалось уже забываемое волнение мужчины и вместе давняя радость ребенка, мальчика, который засыпал, будто в теплом потоке, в объятиях толстой няни Матреши. Фрау Бус, может быть, сама не вполне это ведая, испытывала очевидное пристрастие к Профессору, и то ласковое объятие, которое она всякий раз охотно и даже несколько пылко ему дарила, было, конечно же, неосознанной и желанной вольностью. Вот и теперь, раскрасневшись и пыхтя, она поднесла Профессору рюмку с лежавшей в ней желтой снотворной таблеткой и стакан воды — запить, после чего прижала, может быть, несколько крепче, чем требовалось, его голову к своей колышущейся груди и, медленно склоняясь, принудила его улечься. И он, устраиваясь, мечтал о том, что облегавшее монументальную фигуру фрау Бус тесное платье с высоким воротом каким-то образом распахнется и прямо над ним, над его лицом окажутся большие, как кувшины груди; он припадет губами к огромному розовому соску и, чувствуя, как по телу разливается благодать, будет ровными, долгими глотками вбирать в себя тепло, забвение и покой.
Глава десятая
«...И вот, только представьте себе, мои дамы и господа... Сожженная русская деревенька, маленькая, может быть, всего десять домов, и все сожжены, кроме одного. Черные трубы печей торчат, будто указывают на небо, отвечая на вопрос о причине обрушившихся на землю бед. Этот единственный уцелевший дом стоял на отлете, потому и пламя не дотянулось до него, — на самом конце деревни, уже почти в поле. Где-то там, за полем, в лесу русские. Слева, с севера лес подступал к деревеньке, или, лучше сказать, к бывшей деревеньке, совсем близко, и там, может быть, тоже были русские. Наши, с вечера захватив деревню, не захотели на ночь оставаться в ней — когда стреляют, никому нет охоты ночевать на открытой ладони — и отошли на исходные рубежи. По правде сказать, никому она и не нужна была, эта деревенька, но на то и война, чтобы убивать друг друга и отнимать друг у друга что-нибудь нужное или ненужное, неважно. Как бы то ни было, поначалу мне и моему напарнику было приказано наладить связь, но пока мы возились, последовал новый приказ — отступить, который наши боевые товарищи выполнили куда быстрее, чем мы предыдущий. Принятое среди штатских заблуждение, что где-где, а уж в армии, конечно, порядок, укоренилось, видимо, оттого, что солдат каждую минуту вытягивается перед начальником и кричит: „Так точно!“ На самом же деле в армии не более порядка, чем где-нибудь еще. Точнее, всюду свой беспорядок, который со стороны может показаться порядком; на войне же вообще не может быть порядка, потому что война сама по себе изначально беспорядок. Я думаю, мои дамы и господа, вы согласитесь, что на свете нет большего беспорядка, чем война...».
Старый Фриц был в ударе. Его серебряные талеры весело посверкивали, когда он победоносно вертел головой, обводя взглядом слушателей, равно тех, которые с интересом внимали его рассказу, и тех, которые, понурясь, дремали, пристегнутые к своим креслам. Черная птица Керри время от времени раскатисто выкрикивала какое-нибудь из разученных слов, будто ободряя его и приглашая продолжать.
Под вечер в холле разожгли камин, то есть включили прилаженный к стене, внизу, у самого пола, плоский экран; на нем появлялось — очень похожее на настоящее — жерло камина, в котором ярко и даже слегка потрескивая пылали дрова. От этого, что там ни думай, в помещении становилось уютнее и, казалось, даже теплее. Старый Фриц склонился перед экраном и потер руки, будто согревая их у огня. «Фор-р-ран», — нетерпеливо выкрикнула птица Керри, требуя продолжения рассказа. Он выпрямился, талеры его блестели...
«...Как вы могли понять, дамы и господа, мы с моим напарником остались вдвоем в этой заброшенной Богом и людьми деревне. Впрочем, хорошо бы просто заброшенной! Сожженной дотла! Вот какой она была, лучше сказать, уже не была эта деревня. Осень, рано темнеет, холодно, дождливо, грязь по колено, до своих не доберешься, дороги мы не знаем, да и русские где-то рядом, а пойдешь прямо, полем, как бежали в атаку, — подстрелят, не русские, так свои непременно, когда будешь подползать в темноте. Жителей в деревне никого: еще до начала боя ушли от пуль и снарядов — должно быть, в эти недальние леса. Из домов, как я сообщил вам, уцелел один-единственный, тот, что стоял в стороне, и мы — ничего другого не придумаешь — направились туда. Имя моего напарника было Кригер, Отто Кригер. Вопреки воинственному имени, вид у него был совсем не воинственный: тощий, бледный парень, всегда с унылым, испуганным лицом, — взглянешь на него, и сразу ясно: такой в живых не останется. Не сумею рассказать вам, мои дамы и господа, что это была за лачуга, в котором мы оказались. Крошечное помещение: расставишь руки, и, кажется, достанешь от одной стены до другой, низкий потолок — не распрямиться, земляной пол, черная от копоти печь, непокрытый стол. В углу на скамье сидела и вроде бы даже дремала старуха, похожая на ведьму из наших сказок — костлявая, согнувшаяся пополам, вся, и лицо, и руки, и платье, будто заросшая серым мхом. Сколько ей лет? Сто? Может быть, двести?.. Похоже, вот этак, подремывая в углу, старуха просидела весь день, не замечая ни движения войск, ни развернувшегося боя, ни яростной стрельбы, ни огня, спалившего деревню. Мы вошли. Старуха подняла на нас глаза и снова опустила голову. В ее лице ни было ни страха, ни беспокойства. Мы сели рядом с ней на скамью. Отто сказал: ночью придут партизаны или русские разведчики и найдут нас. Я его успокоил. До своих нам не добраться, а спрятаться негде. Найдут ли нас русские на улице, под дождем, или здесь, в доме, они нас так и так расстреляют. Лучше уж ждать под крышей. Я не заметил, как задремал. Вдруг Отто отчаянно закричал: „Хальт!“ — он вскочил на ноги, автомат ходил ходуном в его трясущихся от страха руках. Старуха стояла у печи, в руке у нее был топор. Она, казалось, не услышала крика, не замечала наведенного на нее оружия. Она отщепила от полена лучину и показала мне, что у нее нет спичек затопить печь. Я чиркнул зажигалкой — тогда были в ходу большие, алюминиевые, на бензине. Дрова в печи занялись, и на душе стало веселее...»
Жестом полководца, указывающего на поле выигранного сражения, Старый Фриц простер руку в сторону экрана, на котором, бойко потрескивая, но не сгорая, пылали поленья.
2«Как у Буратино. — Старик кивнул на экран, где в камине горели и не сгорали дрова, весело подмигнул приятелям. — Там тоже печь, огонь, похлебка в котелке. А сунешь нос, оказывается всё только нарисовано».
«Не в этом дело, — заспорил Профессор. — Именно за старым холстом с изображением очага таилась дверца в иной, прекрасный мир».
«Вот то-то, что — в иной. А в этом мире — светло, тепло и похлебка без отказа, и всё ненастоящее».
«Вы нынче дурно настроены, — сказал Профессор. — Третьего дня, поглядывая на этот камин, вы отпускали такие шуточки, что неловко было слушать».
«Это правда. Пока не задружишься с Альцгеймером, каждый день лезет в голову
что-нибудь новенькое. И всё же как-то паршиво, когда искусственный огонь. А? Ребе, — Старик не любил, когда Ребе сидел отчужденно, погруженный в свои таинственные расчеты, ему, Старику, неведомые и непонятные и оттого неприятно тревожившие его. — Ребе, что вы вспоминаете, когда включают этот нарисованный огонь?»
«Настоящий огонь». Ребе провел рукой перед глазами, точно отгоняя от себя и вопрос Старика, и свой ответ.
«Фор-р-ран», — требовательно закричала черная птица Керри.
Старый Фриц засмеялся, победоносно поглядывая на слушателей. Сегодняшняя история определенно имела успех.
3«...Старуха между тем сняла откуда-то с печи черный от копоти котелок, поставила его на стол и взяла в руки большой нож. Я почувствовал, как напрягся бедный Отто. Он решил, наверно, что ведьма собирается сварить из него суп. Но в котелке оказались четыре вареных картофелины. Четыре — заметьте, мои дамы и господа. Старуха протянула одну картофелину мне, другую — Отто, третью взяла себе. Вы, конечно, спросите, что она сделала с четвертой? Мне и самому тогда было очень интересно, что она с ней сделает. В конце концов проще всего было бы нам с Отто отнять ее у старухи, а еще проще — отнять у нее и ту, которую она оставила себе. Но все и в самом деле происходило, как в сказке. Старуха взмахнула ножом, разрезала лишнюю картофелину пополам и положила одну половину на стол передо мной, другую — перед Отто. Это было по законам русского гостеприимства, дамы и господа! И мы втроем ели картофель без соли, потому что у старухи соли не было, а наши рюкзаки остались на исходном рубеже. И я думал о русском гостеприимстве, о старухе, которую чудом не убили сегодня и, наверно, убьют завтра, либо наши, либо свои, и еще вспоминал один случай, который произошел со мной месяца за три до этого странного приключения...»