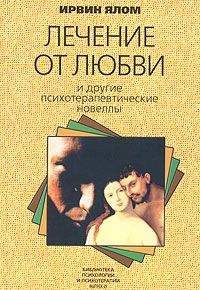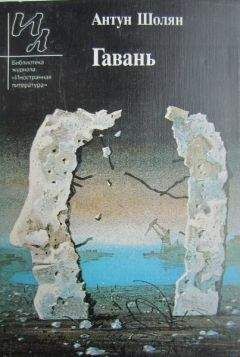Виктор Робсман - Персидские новеллы и другие рассказы
Современная история
1
Андрей Игнатьевич похоронил жену. Она оставила ему сына-подростка Сережу и дочь Людмилу, совсем еще маленькую, не понимавшую — что такое смерть? Она не верила, что мать умерла навсегда. «Мама отдыхает, — подумала девочка, увидев ее в гробу. — Она, наверное, очень устала, а ей тоже нужно когда-нибудь отдохнуть…» Но неподвижное спокойствие мертвой пугало ребенка, и она не могла понять, зачем нужны ей все эти праздничные цветы и праздничное платье, которое так редко надевала она живой, когда она хочет только отдохнуть? Однако слезы отца расстраивали ребенка и, глядя на него, ей тоже хотелось плакать. Но Сережа стыдился его слез: в глазах подростка, слезы делали отца слабым, а ведь он был лучшим врачом-хирургом во всей округе, и люди доверяли ему свою жизнь; он возвращал к жизни умирающих, — ни кровь, ни их слезы, ни сама смерть не пугали его, а теперь он плачет… Это казалось непостижимым мальчику-подростку. Со смертью жены Андрей Игнатьевич сильно сдал. Покойница часто являлась к нему живой во сне и наяву; она не оставляла его, она продолжала быть спутницей его жизни. Однако дом пришел в запустение. Приходила служанка Фрося. Она была некрасива, с широким крестьянским носом и маленькими узкими глазами, без ресниц и бровей, но очень прытка. Она разводила для доктора кроликов на мясо, копала огород на участке, отведенном для доктора за городом, доставала пшеницу у своих односельчан, сносила ее на мельницу и пекла хлеб в печке-времянке. Она все делала легко, без усилий, и везде поспевала. Фрося была одинока; родители ее сгорели в пожаре революции, — так говорила она, — а ее оставили. Были у нее на селе дальние родственники, но все они теперь от нее попрятались, не давали о себе знать. Андрей Игнатьевич подобрал Фросю на улице, когда она умирала от сыпняка, унес к себе в больницу и вылечил. Так она и осталась там на черной работе, и была ей очень рада. Фрося переселилась теперь к доктору, хотя к этому времени его «уплотнили», и она спала там же, где и ела, вместе с детьми. Андрей Игнатьевич передал ей всё, что имел, она вела счет его деньгам, была по-крестьянски расчетлива, скаредна и очень честна — на нее можно было положиться. Сережа подружился с ней — это была его первая подружка, и они вместе ходили с лопатами на огород. За городом, сразу, начинались поля, давно невозделанные, запущенные со времени междоусобной войны, а за ними — луга, напрасно вымиравшие без скотины; жители сельских мест отвыкли от мычания коров и ржания лошадей, а в городе дети узнавали о пастухах из рассказов родителей, как о вымышленных сказках. Огороды были разделены глубокими грядками, похожими на канавы, поросшие лебедой. Пробегали безвредные ящерицы на коротких ногах, волоча хвост; убегали под землю полевые мыши, при виде людей, а птица, не находя семян, с криком преследовала их, куда бы они ни шли. Напивались степными цветами рабочие пчелки, а бездельник трутень кружился над маткой, выпрашивая у нее любви. Сережа всему здесь радовался, он резвился со своей подружкой, незаметно сближаясь, и были уже у них общие тайны. А в городе люди жили без радости — они не видели ни неба, ни земли, всего боялись, от всех прятались, никому не доверяли и всё держали под замком. Не было в то время здесь твердой власти, и люди устали от безвластия, от своей незащищенной свободы; они мечтали о послушании. Приходили и уходили вооруженные отряды, похожие на мятежников, презирающие порядок и покой. Это было странное войско, одетое в живописное тряпье, давно не стиранное, гнившее на их телах. Многие донашивали армейские рубахи и форменные штаны, но примкнувшая к ним чернь была одета во всё краденое, что только попадалось под руку; наряду с истлевшими тельниками, можно было увидеть солдат, нарядно одетых в шелковые рубахи и барские халаты. Одни выделялись хромовыми сапогами, стянутыми с чьих-то мертвых ног, а другие оставались, как были, в лаптях с солдатскими обмотками или в крагах, завезенных в наши края мадьярами. Но были и совсем босые, со ступнями, точно дублёными, крепче кожи и грунта, по которому они ступали. Головы многих были повязаны бабьими платками. Этот сброд, именовавший себя «авангардом революции», питал врожденную ненависть к мирным жителям городов, к удобствам их жизни, и вещи, доставлявшие людям удовольствие, раздражали их, как зуд на их грязных телах, и они всё безжалостно уничтожали; они рыскали по городу, чтобы пограбить и пустить кровь. Оставляя город, они очищали амбары и склады, взрывали мосты, перерезали коммуникации, обещая, однако, скоро вернуться снова. Андрея Игнатьевича в эти дни редко видели дома — ночью его подымали с постели, и он, под пулями, шел к больным. Все случаи были срочные — раненых несли прямо в операционную и клали на сорванные с петель двери, на снятые с заборов ворота, на ставни окон. Они стонали, как животные, а он, преодолевая усталость, работал, как мясник, потрошил внутренности, ампутировал конечности, трепанировал черепа, заглядывая в тайны творения; вскрывая череп, он осторожно подкрадывался с ножом к каждой, казалось ему, еще трепещущей здесь мысли, к каждому чуткому ее нерву, словно где-то здесь скрывалась душа. Кровь лилась, как на бойне, его тошнило от запаха крови, а он всё резал и зашивал эти изувеченные тела, перекраивал их по своему, не по замыслу Божию. А они, эти перекроенные и заново им сшитые тела, не похожие уже на самих себя, были благодарны ему за то, что он сохранил им жизнь. Мир больных интересовал Андрея Игнатьевича больше, чем мир здоровых. Он видел, как под влиянием болезней люди делались лучше, добрее, высокомерие оставляло их: гордые становились смиренными, завистники освобождались от дурного чувства зависти, лишавшего их прежде покоя. В промежутках между страданиями больные находили время заглянуть в свой заброшенный душевный мир и тогда каждому было от чего прийти в отчаяние! Андрей Игнатьевич шел к больным с таким приятным чувством, как будто у каждой больничной койки его ждала новая радость. Ему казалось, что больные похожи на детей, и он начинал понимать, почему сказано: «Будьте, как дети!». О, он никогда не сомневался, что перед умирающим больным раскрывается не бездна, а беспредельная высота — он возносится, а не падает!
2
Андрей Игнатьевич не замечал жизни своих детей — они росли без родительского присмотра, как молодые деревья при дороге. Но события жизни не позволяли им долго оставаться детьми — время было непригодное для школьного возраста. Наравне со всеми они пугались каждой перемены власти, которая меняла их жизнь, ожидая от нее библейских бедствий, подобных всемирному потопу, бубонной чуме или повальному мору; жизнь не была для них больше заманчивыми картинками из волшебного фонаря. Но Фрося все еще их баловала; она находила для них хлеб, когда его нигде не было, а сама недоедала. Она отказывала себе в лишней картошке, которую сама вырастила и накопала, только бы не отнять ее у детей, не оставить голодным доктора; она насыщалась, когда они ели, ее мучил голод, когда они были голодны. Сережа уже не был мальчиком. Руки его лезли из рукавов гимназической куртки, разрывая проймы, а брюки доходили до колен. В его наружности появились мужские черты — он часто задумывался, в рассеянном взгляде видна была забота; темные его глаза казались теперь совсем черными, и в них горела зрелая мысль; он уже понимал, что жизнь каждого человека — это непрерывная борьба со смертью, напоминавшая ему азартную игру. И вот, после короткого безвластия, на смену войскам «авангарда революции» в город вошли отряды добровольческой армии, чего Сережа давно желал. На улицах стало людно, появились модницы с семечками в зубах, открывались заколоченные лавки, а на прилавках появился хлеб, — земля стала снова рожать! — и нигде не было видно трезвых людей. Из каждого двора неслись солдатские песни. В доме Андрея Игнатьевича поселился корнет на кривых ногах, словно никогда не слезавший с коня, словно никогда не сходивший с него на землю. Фрося уступила ему свою постель, а сама поместилась в чулане на сундуках, чтобы сделать приятное Сереже; она одна угадывала, чего он хочет. С этого времени Сережа потерял покой — ему хотелось каждой своей чертой походить на корнета, который, казалось ему, вылит из металла и несокрушим, как кремень; такому, думал он, ничего не страшно! А он, этот вылитый из металла и несокрушимый, как кремень, боевой офицер, ничему в жизни не был рад; на его скорбном лице никогда не проглядывала улыбка. Корнет рассказывал о сражениях, о рукопашных боях, о солдатских бунтах и о том, как тяжело теперь носить на плечах офицерские погоны. У Сережи захватывало дыхание — как это хорошо! Он рвался на линию огня, он хотел усмирять бунтовщиков, принимать участие в рукопашных боях; он хотел быть там, где он нужен, а не здесь, где он не нужен… — Не предавайся напрасным мечтаниям, мой мальчик! — разочаровывал его корнет. — Ты не знаешь, какое безобразное, какое гадкое чувство вызывает междоусобная война! Для такой войны не нужна ни храбрость, ни смелость, ни отвага, а нужно только очень сильно ненавидеть людей… — Разве? С этим не хотел он примириться.