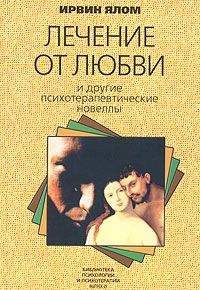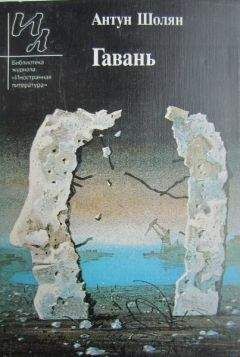Виктор Робсман - Персидские новеллы и другие рассказы
Тегеран выходил уже из своих окраин, поглощал предместья, продолжая жить своей мирной жизнью большого азиатского города. Улицы, как всегда, были наполнены праздными людьми. Запах съестного кружил голову прохожим, и трактирщики ловили голодных на «палочку» кебаба. Отовсюду наступали на прохожих продавцы фруктами, неся на своих головах фруктовые сады. Голубые автобусы с дребезжащими кузовами гонялись за пассажирами, оставляя на дороге раздавленных колесами бродячих собак и сбитых с ног раненых лошадей. В эти дни особенно бойко шла торговля на базаре. Черный склеп, закрытый навсегда от солнца, казалось, шевелился от людей, ослов и мулов. Здесь можно было встретить хлам, который давно уже вышел из употребления и, наряду с ним, дорогостоящие ковры, над которыми трудились персидские дети, пока не состарились. За такой ковер можно купить дом или стадо овец, или целое селение. Нигде, как здесь, нельзя увидеть такого изобилия серебра, выставленного рядом с битой посудой и глиняными черепками. Золотые монеты разных времен, народов и стран лежали грудами на простых обеденных тарелках. Трудно было поверить, что в этих гниющих трущобах с острым запахом разложения лежат неисчислимые земные богатства. Тегеран все еще был нейтральным городом, свободным от коммунистов, в то время как север Ирана оккупировали советские войска; он был теперь для персов заграницей: туда уже нельзя было ни проехать, ни пройти без разрешения советских властей, и жители своей страны подвергались оскорбительным обыскам и недостойным допросам иноземных солдат. На юго-востоке страны курдские племена, промышлявшие грабежами, были вооружены коммунистами и обещали построить социализм. Соседние с ними провинции находились под угрозой их завоевания. На нефтяных промыслах юга происходила «классовая борьба» за овладение нефтью большевиками. — Чего хотят от нас эти люди в кепках? Почему они мешают нам жить? — жаловались наивные персы, когда большевики устраивали беспорядки, вооружали одну провинцию против другой, призывали рабочих не работать, крестьян не сеять, пастухов не пасти овец. Во всех харчевнях, на проезжих дорогах, в караван-сараях, в нищих землянках и в палатках пастухов — везде, где только живет человек, говорили теперь о коммунистах. Их сравнивали с древними мидянами и парфянами, с арабами и монголами, со всеми нашествиями иноплеменных войск, от которых страдала Персия, и которых называют здесь гасеб, что значит захватчики или агрессоры. С набожным чувством персы обращали теперь свои лица при молитве к Объединенным Нациям, как будто могила пророка была перенесена из Медины в Нью-Йорк. Никто не ожидал, что в такое неустойчивое время крепкий, как кремень, Реза-шах Пехлеви отречется от престола, чтобы угодить союзникам, которые, в свою очередь, старались угодить «доброму дяде Джо», точившему на них нож. Старого шаха оплакивали друзья и недруги, когда в 1941 году он увозил в Египет свою померкшую славу вместе с горстью рыжей персидской земли. На престол взошел возлюбленный его сын Мохаммед-Реза, которого женил он, тогда еще наследника, на принцессе египетской Фавзие, сестре короля Фарука, умершего позже в изгнании от пресыщения. Этот брак за глаза не принес счастья ни ему, ни ей. Их счастью не помогли ни свадебные карнавалы, ни уличные шествия толпы с факелами и зеркалами, ни парады войск с шумным барабанным боем, ни выстроенный для них дворец из редкого розового мрамора. Родившийся от этого брака ребенок не сблизил родителей, а послужил поводом для развода; это была прелестная девочка, а шах требовал от жены мальчика. Теперь шах снова, в третий раз, женат, а бывшая шахиня снова замужем. Молодой шах во всем отличался от своего прославленного отца. Если отца его обвиняли в жадности, то сына следовало бы обвинить в расточительстве. Многие говорят в насмешку, что шах скоро пойдет с сумой. Он уже отказался от оставленных ему отцом земельных угодий и поместий в богатом Мазандеране; он раздает крестьянам землю, отобранную у них его алчным отцом. Он тратит наследство отца на постройку школ, приютов, больниц. Он хочет строить, строить, строить, тогда как в персидском Азербайджане все еще стоят советские оккупационные войска, угрожающие жизни столицы: они то придвигаются к Тегерану, то отходят от него, когда союзники прикрикивают на них; можно подумать, что Иран находится в состоянии войны со своими советскими союзниками. В такое время прилетел из Москвы в Тегеран советский министр Кафтарадзе, чтобы отобрать у персов нефть. Иранский премьер осторожно напомнил ему о советских войсках, все еще занимающих север страны, когда война уже давно кончилась и все сроки для увода войск уже давно прошли; при таком положении преждевременно говорить о нефтяной концессии. Тогда все торговцы апельсинами, говорящие на плохом русском языке, и подозрительные люди в кепках, завезенные в Иран советскими войсками, устроили демонстрацию протеста; они обещали зарезать премьер-министра, как барана, а шаху отрезать голову, если он не отдаст большевикам нефть. Теперь никто не сомневался, что персидской независимости пришел конец. — Эти русские, — говорили теперь открыто персы, — совсем потеряли совесть. Они приходят в дом своего друга-союзника, который отдает им всё, что у него есть, чтобы помочь им в беде, а они за это делают ему пакости. Как можно в одно и то же время быть другом и врагом? Другие пугливо спрашивали — какие часы больше любят советские солдаты: ручные или карманные? — имея в виду, на случай опасности, выкупить за них у дикарей свою жизнь. Многие срочно принялись изучать отдельные русские слова, которые больше всего ласкают слух советского диктатора. Вскоре все уже знали, что если кому дорога жизнь, то следует тирана называть добрым отцом или ясным солнышком, а пытки, которым он подвергает мирное население, — нежной лаской. Но случилось нечто непредвиденное; как будто по велению небесных сил бесплотных, советские войска внезапно оставляли Иран, как в свое время варвары оставляли Карфаген. Видно, одной войны было им довольно. Персы ликовали! Они устилали улицы коврами, выносили наружу всю роскошь своих домов, покрывали стены зеркалами, чтобы в них отражалась радость страны. У каждого дома горели, днем и ночью, газовые фонари, как неугасимое пламя поклонявшихся огню их предков. Никто не жалел в эти дни воды, чтобы смыть следы иноплеменных войск, поливая улицы. Старики резвились на улицах, как малые дети. Теперь они могут снова жить своей жизнью, быть подданными своей страны, почитать своих предков, любить своего шаха и молиться своему Богу.
День был солнечный, но холодный, как это бывает здесь в январе, когда в горах Демавенда, у подножия которого лежит Тегеран, метет метель. В такие дни персы не расстаются со своими мангалами-жаровнями с тлеющими углями, покрывают их стегаными одеялами, под которые уходят с головой. Но сегодня шах Мохаммед-Реза, впервые после ухода из страны иноплеменных войск, принимает парад на площади Тупханэ. Он снова шах в своей стране! В такой день нельзя оставаться под одеялом. Люди брали с собой пылающие мангалы и шли на площадь: все население столицы было сегодня тут. Проходила пехота, вооруженная автоматическими ружьями отечественного производства; тащили на лошадях сохранившиеся от старых времен полевые пушки, установленные на лафетах, которые заряжают из дула ядрами и картечью; их производят на заводах автоматического оружия и снарядов в Султанабаде, в местности Арак. На тачанках времен нашей гражданской войны проходили пулеметные подразделения, недавно выпущенные Тегеранским пулеметным заводом, и толпа встречала их с особенным энтузиазмом, как своих детей; в Тегеране размещена была вся иранская военная промышленность того времени — военный арсенал, пороховые заводы. С возгласами и криками «зиндэбад шах-эн-шах!» — «да будет жив царь царей!» встречала толпа кавалерийские части с изогнутыми саблями в руках, на красивых, чистокровных, низкорослых, быстроходных арабских скакунах, похожих на жеребят; пролетали над толпой эскадрильи четырехкрылых военных самолетов, собранных авиасборочными мастерскими в Тегеране. Шумный и бестолковый духовой оркестр разгонял тоску. Шах был европейцем, и только в жилах его текла азиатская кровь. Он понимал, что с такой армией и ее антикварным вооружением не защитить ему границ, а ведь он помышлял о былой империи! Но у него есть неисчерпаемые залежи нефти на юге, которую выкачивают теперь Нафтешах и Лали, Нафте Сефид, Хафт-Келъ, Месджесе-Сулейман, Ага-Джари и многие другие, приносящие уже теперь не малый доход стране. Но у него есть крупные месторождения нефти и на севере, в Иранском Азербайджане, и на южном побережье Каспийского моря, и в Хорасане… Надо только прибрать всю эту нефть к рукам, стать ее полноправным хозяином, и тогда он сможет создать сверхмощное государство, империю царя царей! О, он обратит тогда все доходы от продажи нефти на предприятия военной промышленности, он закупит всё лучшее, самое мощное и неотразимое, что произвела Европа и Америка для войны. Он хочет, чтобы будущее величие Ирана превзошло его великое прошлое… (Говорят, что честолюбие молодого шаха превосходит честолюбие его отца!). Безобразная толпа прорывала тем временем охрану, все кричали: «Да будет вечно жив первый из людей, подобный халифу Али!», «Да здравствует во все века царь царей!», «Да не померкнет слава Ирана во все времена!» — и многие другие славословия, которыми богат персидский язык. Воздух вздрагивал от безмерной радости, земля колебалась от подъема чувств, и тогда, никем не замеченный, вырвался из толпы неприметный человек и открыл по шаху огонь. Кто он? О, это из тех, кто требует, чтобы шах отдал большевикам нефть. Какое безумие! Какое пренебрежение к собственной жизни! Или это непомерное самолюбие толкает людей на смерть? Преступник не избежал самосуда толпы, страшного по своей жестокости, а шах остался жив. Как это возможно! Его не берет пуля! Он сродни святым! И опять город на военном положении, как в дни войны, опять на улицах отряды вооруженных солдат, наряды конной и пешей полиции; патрули на каждом углу — они стоят группами, разжигают небольшие костры, опускают в огонь зябнущие руки. От утреннего солнца снег на горах кажется розовым, румяным. Далеко, на краю земли, одиноко стоит, как памятник вечности, мохнатый от снега Демавенд.