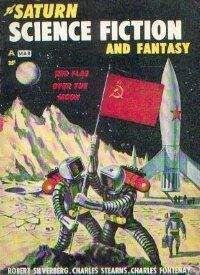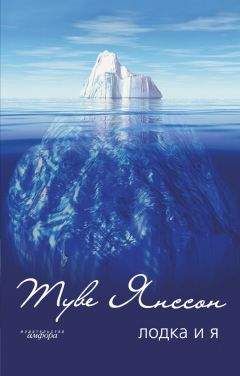Георг Мордель - Красный флаг над тюрьмой
— Ты хоть представляешь себе, почему он вдруг передумал?
— По характеру. Что он видел за свои 28 лет? Папин сын, всю жизнь все шло, как по маслу: родился в тылу, вырос в тепле, в школу его возили на директорской машине, потом учился в институте, никакого конкурса не проходил, папа устроил. Потом — на работу. Захотел в радиоинженеры — пожалуйста, и это устроили. А тут люди едут, переживания, как-никак, щекотка нервов… А может быть он сперва на бизнес в Израиле рассчитывал, а потом испугался: тут у него все привычное, а там еще погоришь. Он же никогда в жизни никаких решений сам не принимал.
— Ты не допускаешь, что ему жалко отца? Если Алик подаст бумаги на отъезд, старика выкинут с работы. Ты же подумай: старый большевик, подпольщик!… и вдруг сын уезжает?
— Надо было раньше думать. Я ему говорила про его отца. Он уверял, что пойдет в суд, будет отрекаться от родителей.
— Тяжело это, Эсинька! Разорвать семью?…
— А Мане Горович не тяжело? А Люде Мульнер? Это, как топором по дереву, когда ударили и не перерубили до конца: уже отрубленное не приклеешь, уже расти не будет, а еще тянется, цепляется за кору. Всех нас ударило, дядя Миша. Нет такой еврейской семьи, где бы не разорвало. Ни в одной стране мира нет такого страшного положения. Даже Румыния — социалистическая страна, а, пожалуйста, хочешь в Израиль — поезжай, хочешь вернуться — возвращайся, во всяком случае можно приехать в гости, звонить, писать. В Советском Союзе, если ты уехал, то как умер. Они сами создали трагедию, сами гонят людей навсегда на другую сторону… Уверяю вас, если бы отсюда можно было уехать и приехать, если бы люди могли съездить в Израиль и вернуться, когда захотят, половина бы не уезжала: пенсионеры, интеллигенция, которым надо учиться заново. Но они сумасшедшие — коммунисты. У них нет середины; заперли целую страну и удивляются, почему у них бегут то рыбаки, то артисты. Где, в какой стране мира слыхали слово "невозвращенцы"? В Америке есть невозвращенцы? Да их там быть не может. Хочет американец, живет в Израиле, хочет — в Англии, хоть всю жизнь. И никто не кричит, что он предал.
— Они не могут открыть ворота. Не могут, Эся. Если они разрешат свободный выезд, люди узнают слишком многое, что сейчас знают только понаслышке. Увидят демократическую жизнь, увидят, что капиталисты своим рабочим платят больше, чем советское государство. Люди могут потребовать, чтобы партия подала в отставку или чтобы переменились лица наверху, а у нас в СССР власть — это деньги, это — вечное положение над законом, это — профессия. Что представляет собою Пельше или Суслов без власти? Какая у них специальность? Никакой. Никсона не изберут, он вернется к адвокатской практике. Не изберут Помпиду — не беда: он банкир. А что такое наши боссы, если их лишить власти?
Эся рассмеялась невеселым, старческим смехом:
— Несчастная страна! Сидят два еврея, у одного есть разрешение уехать, денег нет, у другого есть деньги, разрешения не дают, и о чем они говорят? О болячках государства, для которого они оба контры, вши на здоровом теле коллектива…
Миша с любовью и сочувствием смотрел на Эсю. У нее был удивительно еврейский, восточный профиль, с прямым носом и бровями над переносицей, черные, вьющиеся и длинные волосы, тонкие пальцы, нервные, музыкальные.
— Господи, — думал Миша, — как мало мы в обычных условиях знаем людей, как трудно раскрываем людей в сутолоке буден! Что я знал о ней? Дочь моего двоюродного брата Нухима, родилась в Новосибирске, училась на музыковедческом, а я, грешным делом, не люблю кляксографию и пятноведение, все эти мудрствования над сине-розовым периодом Пикассо. Я — человек хлеба и воды, а искусство — это вино и пряники, не для голодных. Что я знал о ней, об Эсе? Так встречались иногда. Как все советские интеллигенты, бурчали об очередях, смеялись над Никитой, презирали Брежнева за его шпаргалки и "блахосостояние", которое он и выговорить не мог со своим украинским "х" вместо "г"… Я был у нее на свадьбе, тоже без охоты, потому что я знаю ее тестя, этого идиота, который отличался идиотизмом еще в тюрьме в 1937 при Ульманисе. Как говорится, если еврей коммунист и к тому же верующий коммунист, так это надолго. Он верил каждому слову Сталина и теперь верит каждому слову "Правды"… а она шла за сынка такого деятеля. А, поди ж ты, девчонка отказалась от карьеры, вылетела из театра, разбивает личную жизнь, с дочкой трех лет на руках, и уедет в Израиль, если ее выпустят. Как она сказала на собрании в Управлении культуры? "Если желание жить среди своего народа, чтобы никто тебя не спрашивал "национальность?", есть сионизм, то я — сионистка. Но я себя не считаю сионисткой потому, что не видела живого сиониста; знаю только, что сионистов расстреливали в 1924, в 1937 и 1949 гг. и готовы расстреливать сейчас. Кто же мог мне рассказать о сионизме? Я хочу жить в Израиле потому, что у меня дочь, и я не хочу, чтобы всю жизнь ее сопровождала анкета с пунктом номер 5 и глухой шепот за спиной: "Они все спекулянты"…
— Я тебе желаю самого хорошего в жизни! — сказал Миша. — Я удивляюсь твоей стойкости! Ты достойна самого лучшего в жизни!
— Не надо, дядя Миша, а то я начну себя любить! Да! Я же вам деньги принесла! Тысячу рублей. Мы с папой все обдумали, мы можем вам дать тысячу. Хорошо, хорошо, без отводов! Мы еще не едем и бог знает, когда поедем, а вам надо сейчас. Берите, хоть один выберется из семьи.
23
Она ушла, а Миша взял карандаш и, подойдя к дверям, проставил в списке против слова "Нух" цифру 1000. Список висел на двери с того дня, как стало ясно, что они могут ехать и должны собрать 12000. Миша помнил список наизусть:
Вас. Ив. — 500.
Нух — 1000.
Марик — ? (1000)
Грижань — ? (500)
Синагога — ? (1000)
Пианино, холодильник, стиральная, диван, кресло и проч. — 800?
Фриц. Франц — ?
Блюма?
Миша вычеркнул "Марика" и Грижаня, подумал и вычеркнул "Фриц. Франца". Он знал, что его бывший директор не пойдет на сомнительную Сделку. Если бы речь шла о ста, о двухстах рублях, пошел бы. Фриц Францевич был человек мягкий, добрый, он дал бы просящему, но дать много не мог: Фриц строил дачу на Гауе, у него теперь были долги больше двух тысяч… Но все же Миша отправился к бывшему директору, рассказал, что может из Израиля посылать вещи, а у директора были три дочери, все хотели хорошо одеваться; Фриц обещал подумать, он сам не мог получать посылки "оттуда": из партии выбросят, но у него была тетка на деревне, та могла бы получать. На другой день Фриц прислал записку: "Извините, ничего не получается"… Посыльный — средняя дочь директора — сказала, что "папа вентилирует насчет займа для вас", но Миша уже не верил в заем. Блюму тоже надо было вычеркнуть. Блюма жила на первом этаже их "гасиенды" в трех комнатах с расписными стенами. На одной был нарисован сад с деревьями и речка, на второй — Домский собор. Жили еще при Блюме ее муж, зубной техник и собачка "Пушок".
Сперва Блюма задумалась, слушала Мишу и кивала, потом сказала, что сейчас это трудно, ой, как трудно собрать деньги, но она постарается, она поговорит с людьми, но не больше, чем на 500. Конечно, Мишу она знает и будет говорить о нем только хорошее, но трудно, ой, как трудно:
— Я получаю сто пять рублей оклада, а у меня два магазина на плечах! И поработать приходится немало! Сам ящики таскаю, сам бидоны с молоком гружу, а где еще беготня по базам, по торгам? Я вот уехала в отпуск, так они план на 98% выполнили. Всем только зарплата. Все плачут. Я приехала, пошел в торг, выколотила водки "Особой", выправила план. А с водкой сколько горя? С девяти утра только можно продавать до восьми вечера, такое постановление принимали. Я обязан водку в запретные часы прятать, а мне выгодно ее продавать. Самые пьяницы только и идут с утра или после смены — ночью! А я сама против себя воюю…
Она говорила мужским басом, повелительно, непререкаемо, путая женские и мужские формы глаголов, потому что, видимо, считала себя больше мужчиной, чем бабой, и Миша подумал, что вот она уж никогда не поедет в Израиль, где нет баз, торгов, выколачивания водки, грузчиков, которым надо "дать", и клиентов, которым продают спиртное из-за закрытой двери, как во времена "Сухого закона" в США. Просить у нее на отъезд было стыдно, как будто он сам не работал за свои 135, как лошадь. Уроки давал, парты красил, переносил шкафы из кабинета в кабинет, делал все, что делают советские учителя… и не набрал ни полгроша, чтобы уехать. А Блюма, как-никак, каждое лето снимала дачу в Пумпури, была у нее "Юбилейная" мебель, полный гарнитур для трех комнат, носила она шубу из настоящего каракуля. Говорили, что деньги делает ее муж, но не все ли равно? Так или иначе, деньги у Блюмы были, она не хотела их давать. Да и зачем? Что ей в посылках из Израиля? Она могла на месте купить любую вещь за свои деньги, не рискуя дать и не получить ничего взамен. Все ее слова о том, что она знает Мишу и верит ему, были словами для кого-то. Для себя самой Блюма знала: что при мне — то мое, что отдала — пропало. Но и отказать Мише она не могла. Блюма ходила в синагогу на Йом-Кипур и Рош-ашана, по субботам пекла халу и готовила фаршированного карпа. Помогать уезжать было "мицве", — разумеется, если это не стоило ни гроша.