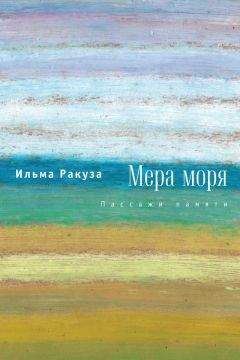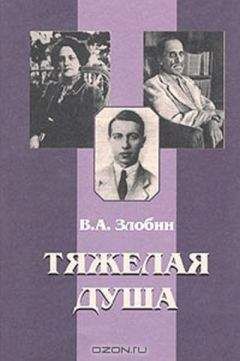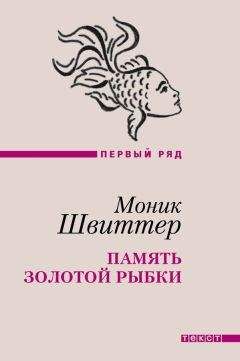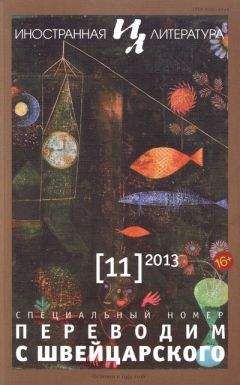Аркадий Белинков - Черновик чувств
(Примечание автора. После тягостных и мучительных объяснений, бывших у Марианны и Аркадия, в которых он долго пытался доказать необходимость задуманного им испытания, подробно анализируя этот жестокий замысел, Марианна окончательно убедилась в том, что не в состоянии теперь вообразить себе возможность упорядочения столь осложнившихся отношений. Теперь она совершенно уверена (правда, не пытаясь быть убедительной) в том, что никакое упо-рядочение вообще немыслимо. Чрезвычайную роль играет соображение касательно безусловной истинности только этического критерия качества и соображение о разочаровании, постигшем ее, когда поведение Аркадия стало измеряться именно этим критерием.
В тяжелое время всех этих разговоров, объяснений и доказательств Аркадий был в крайней тревоге и раздражении, порой доходящих до недопустимой резкости, и его недостойные пререка-ния с огорченной и обиженной Евгенией Иоаникиевной пугали и до слез расстраивали Марианну.
Эта, неповторимого обаяния, вкуса и удивительной, далеко не всем раскрывающейся красоты девушка, чувствовала, как обламываются ее ногти, царапающие так недавно тепло разглаживае-мую мечту о счастье с любимым человеком.
Она не понимала, что может любить лишь одно обличие Аркадия, и что он всякий, и что в первую очередь он человек, задумывающий свою жизнь и правящий ее, как страницу собственной рукописи, в которую вносятся изменения не по мере развития жизненного действия, т. е. извлека-ется опыт для будущего, а по характеру соединяющихся частей, когда пережитое воскрешается, обуславливая дальнейшее не как практика, а как мотивировка этого действия.
То, что она называла разочарованием, было лишь открытием новых особенностей Аркадия, которые необходимо было принять как один из компонентов, образующих характер его.
Что было причиной страшного поступка Аркадия?
Менее всего попытка отомстить Марианне за тяжелые невзгоды, которые довелось пережить ему в последние дни.
Решительным обстоятельством, толкнувшим его на это, было непреодолимое желание (ставшее ясным только спустя некоторое время после всего случившегося) самым радикальным образом порвать с Марианной, забыть все, что связывало с нею, и, главное, уничтожить всякую возможность продолжить эти, ставшие невыносимыми, попытки опять сблизиться с Марианной. И труднее всего было сделать это, когда все, что окружало его и было связано с Марианной, убежда-ло Аркадия в том, как глубоко верна была догадка о скрытом, очень большом, глубоком и обаяте-льном таланте Марианны и как верна была догадка о том, что нет на земле ему счастья без Мари-анниного счастья, без книг, которые они вместе прочтут, и книг, которых друг без друга они никогда не напишут.
Наиболее серьезным поводом к разрыву, в известной степени, может быть, и определившим его формы, были нежелание Марианны понять, а главное, согласиться с рядом очень важных для них обоих соображений Аркадия об искусстве и философии, а также горькое разочарование Марианны и Евгении Иоаникиевны в возможности ничем не омраченного согласия, на которое основательно можно было рассчитывать до событий последних нескольких дней.)
Свет раздражал, как тщетная попытка разрезать ножом тарелку после того, как попытка разрезать мясо кончилась уничтожающей неудачей. Я набросил на него занавес.
Науку расставаний я еще только начал изучать.
Встреча должна была быть последней. Я подбирал звук, завершающий каденцию. Его не было. В хороших стихах - это нервное ожидание, предшествующее далеко ушедшей рифме.
Я ходил из угла в угол. К двери было шесть шагов. Обратно - четыре. Шаги шарахались в сторону, спохватывались и путались, потухая в углах.
Темноты Марианна испугалась. Я удивился, не понял и побледнел. Но было уже поздно, и я оставил все по-прежнему.
- Что нужно вам от меня? - спросила Марианна первой фигурой достаточно тщательно приготовленного монолога.
Ответить на это я не мог. Это была не та реплика, которую я должен был узнать как интро-дукцию к своему выходу. И я обрадовался возможности импровизировать.
Я повел плечом.
- Что мне нужно? Я полагал, что согласие в наших суждениях сейчас самое главное, что мы можем сделать друг для друга, поэтому мне одному это не нужно.
- За этим вы просили меня быть у вас?
- Я думал, что если это последняя встреча, то она необходима и неизбежна так же, как и первое объяснение.
- Нет, не так же. Объясняются для того, чтобы помнить. Мы встретились с тем, чтобы забыть друг о друге окончательно.
- Тогда попрощаемся.
- Извольте. Остались ли у вас еще мои фотографии? Не лгите. Вот ваши письма.
Она бросила на стол перетянутую пачку, от удара которой вздрогнул кудрявый Шиллер со скульптурно отрезанными руками и звякнули тяжелые чернильницы. Фотографий ее у меня больше не было.
Она отошла от двери и прислонилась к косяку, как к рампе.
Прощание состоялось.
Но каденция парила над нами. Ее нужно было взять с клавишей и наполнить комнату новыми звуками.
Она продолжила прощание:
- Я требую, чтобы вы не пытались предпринять что-либо для встречи со мной.
Об этом сам я еще не думал. И мне показалось это глубоко оскорбительным. Я тихо сказал:
- Я не прошу даже ваших фотографий.
Но она уже не слушала и продолжала резко и раздраженно:
- Я категорически настаиваю на этом. Это мелко и унизительно. Я не думала, что Вы окаже-тесь способным на некрасивый и низкий поступок.
Я побледнел. Потом начал перелистывать томик Блока. На каждой странице попадались страшные строки, которые могли стать эпиграфом. Это значило, что книжка наша почти дописана.
А она говорила, задыхаясь от возмущения, сердцебиения, обиды и гнева:
- Оставьте в покое мою мать. Как это низко! Оставьте ее в покое! Если бы не она, я была бы всю жизнь самым несчастным человеком. Вы самый низкий, самый ничтожный и отвратительный человек, которого я знала! Вы - позер и фат.
Эпиграфа не было. Это было слишком не похоже на изящную словесность. Я не знал, что делать. Я сидел и внимательно слушал. Иногда я даже повторял за ней. Потом я испугался и, пошатываясь, подошел к ней.
Наши дыхания сталкивались. Ноздри были сильными и острыми. Они могли каждое мгнове-ние впиться в лицо.
- Вот вы как... - продышала она дымом в глаза мне. - Вы... Вы негодяй!
Я ворвался в ее плечо и, давя ее руку, задыхаясь и в дрожи дробя зубы, ударил ее, в послед-ний раз ощутив захлебнувшимися ладонями удивительную теплоту и нежность ее лица...
Запахло гарью. Потом улица легла на бок. Автомобили стекали по отвесно повисшей стене, обрывая крылья и стекла об острую хвою звезд.
Ночь шагнула из мрака. Вечер привстал на носках, но уже ничего не мог разглядеть. Ночь была изрыта дождем, как оспой. Дождь стоял на тротуаре и, когда к нему подходили, - отходил.
Дом был похож на аккуратно сложенную стопку книг. У подъезда стояли черные большие автомобили. Дождь осторожно отходил и любопытно заглядывал в фары. Фары были синие, и только в центре их были желтые пузырьки света. Как в аквариуме. Фары были похожи на подве-денные глаза чаек.
Из подъезда выносили большие плоские ящики. Осторожно ставили их в автомобили. Что-то тихо говорили. И автомобили осторожно отходили на несколько метров в сторону.
Дождь бормотал что-то по брезенту. Фонари, автомобили устало мигали. Тучи были асфаль-товыми. Дождь подошел вплотную к автомобилям. Он заглядывал в кабину шоферу и с любопыт-ством приподнимал край брезента.
Было тихо и значительно настороженно. Тучи терлись о воздух. И был ветер и дождь. И настежь распахнутые двери музея.
Апрель - июль 1942, Ильинское
Октябрь - январь 1942-1943, Москва