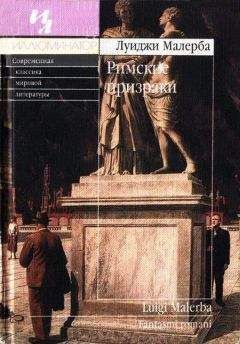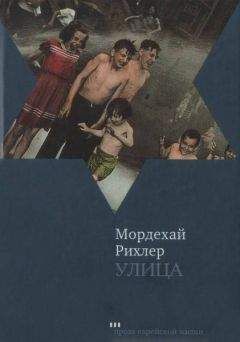Мордехай Рихлер - Кто твой враг
— Первый парень, которого я убил, был вервольфом. Знаешь, кто такие вервольфы?
— И знать не хочу.
— В последние дни войны из истовых гитлерюгендовцев формировали особые батальоны — им было велено защищать Берлин до последней капли крови. Я схватился с одним из них через несколько дней после того, как Берлин пал.
— Почему ты стараешься меня напугать?
Что правда, то правда, подумал он. Я стараюсь ее напугать.
— Эрнст, что станется с нами?
— Не знаю.
— Мы могли бы пожениться.
— Твои знакомые сказали бы, что я польстился на твой паспорт.
— Но это же неправда.
— Почему, — сказал он, — паспорт-то у тебя есть.
— Но ты же любишь меня. Ты сам так сказал.
— У тебя есть паспорт. Может быть, поэтому я тебя и люблю.
— Ты веришь в Бога? — огорошила его вопросом Салли.
— В кого-кого?
— В Бога.
— Не знаю. Как-то никогда об этом не задумывался. А это важно?
— Меня воспитывали в неверии. Мои родители — социалисты. А я верю в Бога.
— Ну, так ты веришь в Бога, — сказал он, — ну и что?
— Что толку объяснять. Тебе не понять.
— Угу. То-то и оно. — Эрнст натянул куртку. — Нам никогда не понять друг друга. Слишком разная у нас была жизнь.
— Куда ты?
— Пройдусь, — сказал он. — Что-то мне не по себе.
— Эрнст!
Но он уже скрылся за дверью.
Проснувшись после той, первой его ночи у нее, Салли, хоть между ними и не было близости, не находила себе места от стыда. Она подцепила его буквально на улице. Эрнст же в то первое утро проснулся с ощущением, что его оттолкнули. Он не ожидал, что ему придется провести всю ночь на полу.
— Моя рубашка еще влажная, — сказал он вечером. — Я уйду, когда она высохнет.
— Я думала, у тебя есть чемоданчик. Думала, ты его принесешь.
— Ты же не хочешь, чтобы я остался.
— Да нет, — солгала она. — Хочу.
Эрнст, как и обещал, помыл и натер пол, и в то же утро Салли договорилась с Карпом, что Эрнст вселится в пустующую комнату дальше по коридору.
Через три дня они стали любовниками, и Эрнст проявил такую изощренность, что разом стер из ее памяти двух-трех неуклюжих юнцов, своих предшественников, но при всем при том он вселял в нее страх. Она никак не ожидала, что способна выкрикивать непристойности и шептать нежности мало того что чужому человеку, так еще и человеку, которому, по всей вероятности, нет до нее никакого дела. Но после того, как он стал предупреждать ее малейшие желания, после того, как они, отбросив притворство, поселились вместе, она осознала, что у него на нее права и за пределами интимной сферы. Тем не менее первые несколько недель — а в них смешались ужас, наслаждение и мука — были напряженными. Салли каждый день собиралась сказать Эрнсту, чтобы он ушел, и каждая ночь была еще более бурной, чем предыдущая. Временами Эрнст нагонял на нее такой страх, что она только что не заболевала. Однако в глубине ее души жила уверенность, что так продолжаться не может. Это лишь эпизод, только и всего.
Спустя неделю после того, как Эрнст переехал, он договорился с Карпом, что будет делать по дому все, что потребуется. Спустя две недели он уже выполнял всевозможные работы для жильцов соседних домов и смог еще раз послать деньги родителям. А когда перебрался к Салли, стал еженедельно вносить на расходы по два фунта.
И все равно он оставался для нее загадкой. Он увлекался играми, собирал любые, без разбора, марки, обожал вестерны и самые что ни на есть душещипательные голливудские мюзиклы. Всем романам он предпочитал «Скарамуш»[85]. Вместе с тем он был просто пугающе проницателен.
Как-то раз Салли свалилась с гриппом, и тут он открылся ей с новой стороны. Этот парень, детище жестокости, пел так, что на глазах навертывались слезы. Бог знает как, бог знает где, в промежутках между кражами, потасовками и побегами, Эрнст успел нахвататься песен Моцарта и Шуберта. Но подобно тому, как змея старается скрыть от чужого глаза свой великолепный окрас, так и Эрнст не хотел выставлять напоказ свой дар. Он взял с Салли слово никому о нем не говорить. И все же, когда она купила ему гитару, Эрнсту стоило немалого труда скрыть радость. Он пел для нее чуть не каждый вечер.
— Тебе надо учиться, — говорила она.
— Нет, — говорил он. — Это невозможно.
Эрнст, судя по всему, ни перед чем не останавливался, чтобы выжить. Однако единственное имеющееся в его распоряжении достояние использовать не желал. Салли его поняла. И перестала подстегивать.
А затем для обоих началась светлая пора — пора радости, открытий, дурачеств и воздушных замков. Пора, когда Салли, возвращаясь домой из школы, последний квартал бежала бегом, стаскивала пальто, расстегивала юбку, и, еще до того, как она, скинув туфли, бросалась в его объятья, ее начинала бить внутренняя дрожь. Пора, когда дряблые, погасшие лица пассажиров в метро преисполняли ее жалостью. Когда одного прикосновения хватало, чтобы стало ясно: она не вправе больше ничего просить от жизни. Пора нескончаемых ночей, проходивших в разговорах, ночей любви, одной сигареты на двоих, фантазий и вина. Пора, когда она, некстати вспомнив какие-то особо жгучие ласки, разражалась смехом, озадачивавшим школьниц. Вместе с тем она знала, что пора эта продлится недолго. За эту радость, его и ее радость, им придется заплатить, и очень скоро. Эрнст был порождением ночи, был обречен.
Когда Эрнст встретил Салли, он хотел одного — добраться до Америки и разбогатеть. Свои шансы он оценивал трезво. Его ум, хорошая внешность, изощренность в постельных делах, знание языков и, прежде всего, наплевательское отношение к людям должны были ему помочь. Отсутствие законченного образования, кашель — уж не симптом ли туберкулеза — и полиция могли помешать. Он не учел одного — не учел, что может влюбиться.
Эрнст знал, какие чувства положено испытывать влюбленным, и поэтому постепенно понял, что он, словом, что он влюбился в Салли.
Когда он бывал с Салли, у него рождалось подозрение, что пусть не мир, но счастье — вовсе не бабушкины сказки. Рождалось ощущение — до чего же хорошо любить, томиться желанием, не спать по ночам, тереться лицом о влажный живот любимой, петь, валять дурака. Он разучивал песни, начал — это давалось нелегко — надеяться, ощущать вкус к жизни. Но бывало и так, что часа в три ночи он просыпался от кошмара: ему снился Ники, чудилось, что наливное, теплое тело Салли обок от него — мертвое, и, не в силах справиться со страхом, в конце концов, расталкивал ее, стискивал в объятьях. А бывало и так, что ему приходилось претерпевать эту муку в одиночку. Штукатурил ли он потолок у соседей, заделывал ли трещину в стене на их улице, натирал ли пол в доме за углом, при воспоминании о каком-то особо прелестном ее жесте, сокровенной ласке или запахе у него вдруг перехватывало дух, ноги подкашивались, и он под тем или иным малоубедительным предлогом бросал работу и мчал домой — переждать этот час, целых три тысячи шестьсот секунд, до ее возвращения, при том что в любую из них, опередив Салли, могла явиться полиция и забрать его.
Эрнсту захотелось сделать Салли подарок, и он отнес ее фотографию австралийскому художнику, картину которого — девочка с собачкой на коленях — увидел на парковой выставке в Хампстед-Хит, и австралиец, поторговавшись, подрядился написать портрет Салли за двадцать пять гиней — это был первый в его жизни заказ. И Эрнст десять дней кряду торчал у австралийца в студии — придирался, говорил, что цвет не тот, а то там, то тут нет сходства. Из-за рамы они поцапались. Австралиец запросил за раму десять гиней сверх цены, а Эрнст — он считал, что портрет не очень-то похож, — говорил, что не прибавит ни гроша. Мало того, он еще потребовал, чтобы австралиец написал в правом, пустом, по его мнению, углу вазу с розами. Ваза, сказал австралиец, нарушит композицию, но Эрнст раскошелился еще на пять гиней, и ваза была водружена. Назавтра Эрнст отнес картину домой и перед приходом Салли повесил ее над кроватью.
Картина была ниже всякой критики. Но Салли предположила — и не ошиблась, — что Эрнст дарит подарок первый раз в жизни.
— Милый, картина прекрасная. Просто прекрасная.
— Не хочешь меня огорчать.
— Правда-правда, милый, прекрасная картина.
Эрнст запрыгнул на кровать.
— Ты там не очень похожа, но глаза, по-моему, вышли хорошо. Если она тебе не нравится, ее можно вернуть. Я не обижусь.
Но Салли и слышать об этом не хотела. Во всяком случае, так она ему сказала.
Когда Эрнст вернулся — через час после того, как ушел из дому, — Салли сидела на кровати, надписывала конверт. Эрнст твердо намеревался по возвращении рассказать ей всю правду про Ники. Но едва он переступил порог, как она кинулась обнимать, целовать его, лепетала всякие нежности.
— Никогда, никогда не уходи так, — сказала она. — Я боялась, что ты не вернешься.