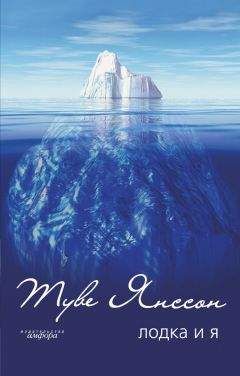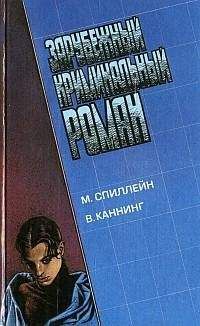Зое Вальдес - Кафе «Ностальгия»
Я сменила квартал после своей скоротечной поездки в Гавану. Едва ли я могу касаться этой темы без того, чтобы у меня не начался спазм в гипофизе. Я уже решила бросить работу фотографа, но один французский коммерсант упросил меня поехать вместе с ним, поскольку ему нужны были наглядные результаты его поездки. А мне нужны были деньги. Я поклялась, что никогда больше не вернусь, но чего отрицать, определенного рода зависть овладела мной. Хотя я и не ждала чего-то особенного от этой поездки. Боялась столкнуться с живыми трупами. Мне следовало оплатить визу на въезд в мою собственную страну. Я бросила в чемодан четыре смены белья, чистые пленки и фотопринадлежности. Самолет приземлился в гаванском аэропорту рано утром с привычным для «Кубинской авиации» опозданием; старая шутка: «Какая компания самая религиозная в мире? – "Кубинская авиация" – летает как Бог на душу положит». Я провела два часа в таможне, ожидая, когда досмотрят багаж. Шум, крики да еще нервозность – хоть уши затыкай, коммерсант попросил меня не привлекать к себе особого внимания: он не хотел, чтобы всем стало известно, что я кубинка, на что я иронично улыбнулась: даже сам Папа Монтеро[126] сейчас не догадался бы об этом.
Выйдя из этого ничейного пространства, перейдя эту ужасную для психики границу, я ступила на размягченную мостовую и вдохнула полной грудью аромат моей земли. Боже, я почувствовала запах детства, моих друзей! У меня было немного времени, нас тут же посадили в ведомственный автобус и отвезли в гостиницу такого же ранга. Я провела четыре дня в автобусе с тонированными стеклами, разъезжая по министерствам с одной встречи на другую, с объективом у глаз, который отделял от меня реальный мир. В последний вечер я смогла выбраться на Малекон, оттуда укатила на такси в Санта-Крус-дель-Норте, а на обратном пути прошлась пешком по опустевшей и разрушающейся Старой Гаване. Я поплакала возле своего дома, потом поехала туда, где мы гуляли с друзьями. Попросила таксиста притормозить возле тюрьмы «Ла-Кабанья», где досиживал свой срок Монги.
Я вернулась и не вернулась, так как не смогла бы толком ничего рассказать, потому что не увидела ничего, кроме нищеты, лишений и душевной боли. Несмотря на то что кое-где в старинных патио народ танцевал под барабан бата и девушки, промышлявшие на Малеконе, выглядели здоровыми и жизнерадостными, вялость сквозила повсюду. Но где-то рядом текла настоящая жизнь, и этому городу нужно было стараться жить без уныния, хотя бы внешнего. На следующее утро я улетала.
На таможне у меня изъяли пачку отпечатанных фотографий под тем предлогом, что на них зафиксированы стратегически важные объекты. Французский коммерсант брызгал слюной, он был на грани нервного припадка, ведь ему не удалось добиться своей цели – купить жене пляж, чтобы понастроить на нем разных отелей. Он прошел через таможню, изрытая налево и направо проклятия – как нас только не арестовали?! В принципе, я была довольна: черт тебя дери, жополиз проклятый, ты и теперь будешь говорить во Франции, что Этот Остров – просто чудо! Я поднялась на борт самолета с ощущением, что меня здесь и не было, с угрызениями совести от того, что приехала сюда почти как сообщник, с тоской, разъедающей душу. Больше ни ногой. Никому не скажу, что возвращалась, подумала я. Никогда себе этого не прощу. Вот таким вот штришком, прямо скажем дерьмовеньким, я завершила свою эпопею с фоторепортерством и ура-патриотическим затмением.
Спустя несколько месяцев мне предложили должность визажиста на телевидении, я без колебания согласилась, закончив перед этим наискучнейшие курсы, в результате которых в совершенстве овладела данным ремеслом; у меня теперь днем полно свободного времени, потому что основная часть передач записывается и транслируется по вечерам. Таким образом, я могу поздно ложиться и спать по утрам, а мой квартал так и живет, бодрствуя по ночам, и мне это нравится. Чем дальше, тем спокойнее я отношусь к удовольствиям; я тщательно отбираю их, предпочитая те, которые не доставят мне никаких душевных мук. Хотя, как бы я ни старалась избежать соблазнов, все равно мне перепадают разные сомнительные наслаждения; в конце концов, страданий в жизни мне хватало, и чего там отрицать, я уже говорила прежде: когда мне плохо, тогда как раз и укрепляется мой дух, увеличивается во мне созидательная энергия. Недавно я гримировала одного политика. После того как я облагообразила его лысину, то есть промокнула жир, которым сочились приклеенные к черепу четыре волосинки, и припудрила голову бежевой пудрой, я нанесла на кожу лица слой крема-основы «Ланком»; а дальше мне нужно было подвести брови коричневой тенью, подчеркнуть благородство взгляда, сгладить невероятно большой лоб и безразмерную лысину, а еще выделить глаза, ведь они такие у него маленькие, совсем как у крысы, пройтись по ресницам тушью «Мэйбеллин»; я истратила целый флакон крема-основы, только чтобы замазать неровности лица, рукой художника обвела кистью «Шанель» его тощие сморщенные губы, чтобы потом розовым тоном «Ив Сен-Лоран» создать впечатление, что рот у него, как у юноши, красивый и здоровый. Наложив последние штрихи, я подумала, что передо мной сидит марионетка, достойная кукольного театра. Невероятно, как он беспокоился о малейших нюансах, зависящих от чудес светотехники: а будет ли свет сочетаться с таким колором губной помады, а не будут ли зубы слишком пятнистыми или желтоватыми от того, что его щеки и подбородок такого розового оттенка – и он настойчиво просил, чтобы я подкрасила ему зубы жемчужно-белым и чтобы ни на шаг не отходила, пока он будет перед камерой, чтобы вовремя промокнуть ему жир на носу, ведь от этих прожекторов из кожи сразу же выделяется холестерин. Я пришла к выводу, что если бы этот политик разбирался в политике так же, как в косметике, то, возможно, жизнь стала бы лучше. Ни один политик, который беспокоится о том, чтобы выглядеть как Кен (жених Барби), больше чем о связности своей речи, не избавит планету от охватывающей ее ненависти.
Я размышляю, направляя свои шаги на улицу Сент-Антуан, эта улица – моя лестница на небо; можно сказать, что, начиная с нее, для меня все дороги ведут в вечность. От Сент-Антуан прямиком в облака. Когда я иду по ней, меня окружают ароматы самых изысканных приправ и захватывают самые чудные мелодии. Вот потому-то я и могу бродить туда-сюда по ее тротуарам, и не перестаю воображать, что схожу на берег в бухте Гаваны или Матансаса.[127] Стоит только мне вспомнить соленый вкус моих волос, как язык сам собой высовывается изо рта, а в ушах пищат автомобильные клаксоны и гудят сирены торговых кораблей.
На углу улиц Ботрельи и Сент-Антуан банкомат банка «Креди-дю-Нор» выдает мне триста франков, в киоске напротив я покупаю газету. На первой полосе – статья о Том Острове, я сразу же переворачиваю страницу, чтобы чего доброго не испортить себе день очередным дурацким рассказом. Ведь такое ощущение, что каждый раз ты читаешь одну и ту же статью: красота природы, тропический климат, музыкальность, девушки на выбор, здравоохранение и образование гарантируются, низкий процент бедных, эмбарго, никаких диссидентов, а если и есть, то они сами виноваты, слишком привередливы. Короче, наш каждодневный идиотизм. Сдается, что эти журналисты ездят на деньги газеты туда, чтобы только оторваться в полный рост, а потом старательно переписывают чужие статьи, в свою очередь тоже содранные, и вся эта стряпня ничем не отличается от того, чем кормят в школе детей, и не имеет ничего общего с действительностью.
Я не собираюсь вычеркивать Самуэля из списка моих предпочтений, мне не удается забыть, что было между нами; меня пробирает дрожь, от копчика до кончика языка. Чего я только не делала, чтобы заглушить тембр его голоса, не слышать его успокаивающих слов, но мне не удается выкинуть его из головы, напрочь выдавить из подкорки. Хотя не стану отрицать, что его отъезд стал бальзамом, в то время как его присутствие было больше похоже по действию на обезболивающий укол, который дантист делает в нёбо, – зуд онемения. Я не хочу, чтобы меня терзали угрызения совести. Пусть будет так, даже хорошо, что он уехал в Нью-Йорк, я рада, что он нашел работу у мистера Салливана, который займется им, как если бы это была я, его ненастоящая дочь. Самуэль будет чувствовать себя свободнее, работая над тем, что его увлекает, он будет снимать то, что захочет, точнее то, чего потребует момент, но вряд ли он на этом остановится – таланта ему не занимать. Он снимет кино (возможно, и не то, которое захочет), когда наконец переберется в Лос-Анджелес, в эту киномекку. И чего это я структурирую его жизнь, мне бы привести в равновесие свою собственную вселенную. Он не виноват, а если и отомстил мне чем-то, то сделал это неосознанно. Так бывает, и он воспользовался случаем deus ex machina,[128] чтобы изменить направление судеб. Ах, Марсела, притворись, что ты можешь одним махом покончить со случившимся, плюнь на все и наслаждайся жизнью; пусть тебе одиноко, но ты броди по улицам другого города, который так далеко от города твоего детства, гляди, кругом идут люди, у них полно проблем, посмотри, как они прекрасны, несмотря на свои заботы; ты должна уметь вспоминать и не делать при этом себе больно. Вечеринки, ах, эти юношеские встречи! Но всякое воспоминание, всякое напряжение памяти связано с Самуэлем. Ах, Самуэль, мой последний выстрел! Во всяком случае, кровь не полилась потоком, лишь капля красного вина упала в канализацию.