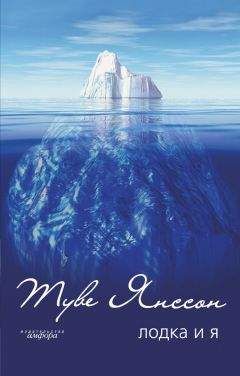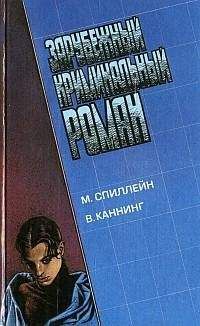Зое Вальдес - Кафе «Ностальгия»
Боксерский ринг оказался закрытым. Как-то, когда я еще и в школу не ходила, моему дядюшке Элисео пришла в голову замечательная мысль: он напялил на меня свою дырявую дальше некуда футболку фирмы «Така», военные бермуды, срезал мне ножом волосы, оставив только клок спереди, точно как у уличных хулиганов, вытащил из ушей серьги, обмотал мне руки и ступни бинтами, которые стащил у жены из аптечки, и выставил меня, словно бойцового петуха, на ринг. Он предупредил, чтобы я защищала грудь и лицо, добавив, что мое превосходство в том, что в отличие от мальчишек мне не нужно защищать пах. Все вечера я, переодетая в парня, дралась на ринге голыми руками с мальчишками из нашего квартала. Я выступала под псевдонимом Марсель, и тренер нисколько не сомневался в том, что я парень, но однажды меня нокаутировали. Тренер потащил меня в душ, чтобы ополоснуть холодной водой. Каково же было его удивление, когда он раздел меня и вместо отростка обнаружил щель – его просто затрясло с перепугу. Дядя мой смутился, однако признался, что мечтал о парне, а жена родила ему девочку, вот он и решил, что в нашей семье боксером стану я. Эмма чуть не умерла со смеху. В то время смех доставлял нам просто удивительное наслаждение. Мы прошли по улице Паула до железнодорожного вокзала, добрались до дома, где родился Хосе Марти. Поглядели на увеличенные каракули его почерка, выставленные для обозрения посетителей; это единственная достопримечательность, связанная с Апостолом кубинской революции, которую охраняют с безмерной гордостью. Как бы то ни было, это место хранит тайну, и – не скрою – сюда мы захаживали нередко.
Вечером мы – я, Эмма и Рэнди – уселись на парапет Малекона, чтобы слопать манговые дольки. Мы купили их у старухи кошатницы, абсолютно беззащитной нищенки, которая занималась прикормом бездомной кошачьей братии Центральной Гаваны. Она таскала с собой две большие, полные объедков, корзины, а за ней плелись вонючие, чесоточные кошки. Рэнди взял с нас обещание, что, где бы мы ни оказались в будущем, мы не перестанем общаться друг с другом. Упрямая в свои тринадцать лет, я заявила, что никуда не уеду отсюда, хоть зовите меня в Эльдорадо.
– Что это? – спросил Рэнди.
– Ты разве не изучал в школе географию и историю Латинской Америки? – спросила я в ответ, вытаскивая застрявшее между зубов волоконце манго.
– Изучал, но это все скучно и быстро забывается.
– Значит, если однажды я смоюсь куда-нибудь в Сальвадор или Боливию, то ты, черт возьми, и представления не будешь иметь, где меня найти, – ответила я с иронией.
– По твоему вкусу, – отшутился он, цитируя слова болеро и обсасывая гладкое семечко манго. – Ты должна быть вкуса манго.
– Вкус не оставляет следа, мой милый, – возразила Эмма. – Каков стол, таков и стул.
– Ладно уж, какая сегодня остроумная ту sister![120]
В этот момент к нам подошел какой-то человек с «полароидом» в руках, делавший снимки за пять песо. Мы попросили, чтобы он сфотографировал нас, сидящих на парапете Малекона, всего три снимка, каждому по штуке, чтобы не забыть, что когда-то мы были молодыми и красивыми. Столько радости в наших лицах, а впереди – долгая разлука. Смех сквозь слезы. Эмма одета в белое: юбка-солнце и блузка с вышивкой, в тот день я одолжила ей взятую у матери плетеную сумочку. На Рэнди темно-синие, точно пригнанные джинсы, чешки, бывшие последним отголоском ввозимого капитализма, светло-коричневый пуловер с короткими рукавами. На мне юбка такого же, как у Эммы, покроя, только из нейлона и в цветную полоску – белую и зеленую; льняная блузка, хотя выцветшая, но все-таки красная, с кружевами на рукавах и на вороте – подарок одной мадридской архитекторши, которая купила ее в «Английском Дворе», она подарила ее мне во время своей поездки по Кубе, когда в бесплодных поисках фамильных корней пересекала страну с востока на запад; дед ее был архитектором; построить Астурийский центр – его идея. На том фото позади нас – Эммы, Рэнди и меня – плещется сверкающее море, а в бухту входит советский нефтяной танкер.
Несмотря на моральную поддержку Эммы и Рэнди, я не смогла полностью забыть своего любовного увлечения, обратившегося в пепел. Поначалу меня вдруг неожиданно охватывал страх, но потом время сгладило и притупило полузабытые ощущения. Не отрицаю, что приняла эту историю как знак судьбы, ей я обязана своей непреходящей меланхолией. Но порой моя грусть переходит в беспросветную депрессию. Хуже всего, когда я заново начинаю переживать тот случай, снова проваливаюсь в тот дьявольский кошмар, надолго отвадивший меня от любовных увлечений. Даже роман с Самуэлем не сложился как надо, хотя здесь-то уж вроде не могло быть никакого возвращения назад. Да и с чего это я взяла, что его присутствие сможет победить прошлое, все еще терзающее меня? Если вдруг я вновь вспоминаю ту любовь, у меня целый день ужасно стучит в висках. А вот еще сон, менее мучительный: отец и сын, играющие в бейсбол в залитом солнцем парке Влюбленных, который раньше называли парком Философов; я вычитала это в книге рассказов Кальверта Кейси,[121] там даже упоминаются греческие статуи; а сейчас я вспоминаю статую Лус-и-Кабальеро[122] с его гривой на средневековый лад и вздернутым носом, а также бюсты Феликса Варелы[123] и Хосе Антонио Сако,[124] и я шуршу, опустив руки, покрывалом из опавших, затоптанных и уже подгнивающих листьев. И бродит счастливый ребенок, он все время повернут ко мне спиной. Хочу видеть его лицо! Как мне хочется провести языком по его щеке, мне необходимо знать, какой он на вкус! Хотя, быть может, когда-нибудь мне удастся это узнать.
Глава третья
Слух, забвение
Сновидения – это то, что мы забываем? Реальное, исключительно наше, пространство свободы? Забвение и свобода – к чему им друг другу противоречить, они могут и дополнять друг друга. Забвение освобождает нас от ночных кошмаров? Разве забвение освобождает? Не уверена, хотя лишь в снах, не думая об этом, я могу коснуться запретного. Если слова не записывать, то их унесет ветром. Интересно, какой-нибудь индеец Амазонки или дикий африканец также будет видеть сны и забывать их, как гаванец или парижанин? Сомневаюсь. В своих сновидениях я слышу то, что вычеркнуто из моей памяти.
Перестань быть такой доверчивой, Марсела, займись-ка лучше собой. А на сегодняшний день это значит: выскочить на улицу, услышать голоса приезжих и горожан, погреться на солнце – ведь сегодня оно наконец появится, – поболтаться без всякой определенной цели с «кэноном» на шее, увековечить какую-нибудь неожиданную сцену. Например, новых хиппи с проколотыми ушами, носами, губами, языками, пупками и, подозреваю, даже гениталиями, обремененных бутылками, где-нибудь на входе станции «Сен-Поль», – я видела как-то таких, но у меня не было с собой камеры. У Шарлин не хватило доводов, чтобы отговорить меня от переезда во французский дом старогаванского стиля на улице Ботрельи в квартале Маре. Она предсказала, что в моей жизни произойдет нечто из ряда вон – даже хуже того, что уже случилось! Она была уверена, что этот район полон голосов, запахов и всяких прочих странностей, к которым, несомненно, относятся и бродящие по частной гостинице, в которой я поселилась, всевозможные призраки: как древние, века шестнадцатого, так и совсем свежие. И это правда, в доме напротив когда-то отправился на небеса певец Джим Моррисон,[125] оттого что вогнал себе в вену слишком большую дозу; меня ласкает его дыхание, легкое и пьянящее, и порой, когда я иду по тротуару, оно обволакивает меня, окружая неким странным амфетаминным ореолом, проскальзывает ко мне в горло, принося вкус пачули, а голос певца нежно нашептывает мне в ухо одну из своих песен. Однако этот призрак и есть самый соблазнительный в квартале, он до сих пор сохраняет свое очарование, потому что днем здесь постоянно бродят такие же, как он, нереальные персонажи – привидения его песен, на самом деле знаменитые или бесславные, насмешливые призраки, и он отказывается уходить со своей музыкой куда-нибудь в другое место.
Я сменила квартал после своей скоротечной поездки в Гавану. Едва ли я могу касаться этой темы без того, чтобы у меня не начался спазм в гипофизе. Я уже решила бросить работу фотографа, но один французский коммерсант упросил меня поехать вместе с ним, поскольку ему нужны были наглядные результаты его поездки. А мне нужны были деньги. Я поклялась, что никогда больше не вернусь, но чего отрицать, определенного рода зависть овладела мной. Хотя я и не ждала чего-то особенного от этой поездки. Боялась столкнуться с живыми трупами. Мне следовало оплатить визу на въезд в мою собственную страну. Я бросила в чемодан четыре смены белья, чистые пленки и фотопринадлежности. Самолет приземлился в гаванском аэропорту рано утром с привычным для «Кубинской авиации» опозданием; старая шутка: «Какая компания самая религиозная в мире? – "Кубинская авиация" – летает как Бог на душу положит». Я провела два часа в таможне, ожидая, когда досмотрят багаж. Шум, крики да еще нервозность – хоть уши затыкай, коммерсант попросил меня не привлекать к себе особого внимания: он не хотел, чтобы всем стало известно, что я кубинка, на что я иронично улыбнулась: даже сам Папа Монтеро[126] сейчас не догадался бы об этом.