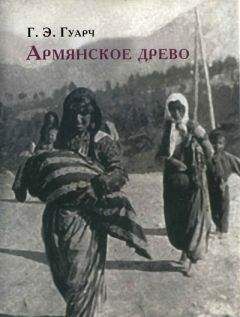Мигель Сихуко - Просвещенные
Старшие братья и сестры стали моими родителями.
Хесу, с его индейскими мокасинами и электрогитарами, на собственном примере преподал мне, что значит быть клевым. С ним я открыл для себя мир за пределами книжек. Мы ставили палатки во дворе, ходили в горы, собирали самолеты на дистанционном управлении. Это он придерживал сиденье, когда однажды утром с моего велика сняли страховочные колеса, и не давал мне завалиться на бок, пока я не рванул вперед самостоятельно.
Самая старшая из сестер, Клэр, прирожденная мать, любимая и привыкшая быть всеобщей любимицей. Я садился с ней за туалетный столик и смотрел, как она красится, и был счастлив, если она подрисовывала мне синяк. Когда она тихонько хихикала по телефону на кухне, мы, младшие, так хотели поскорее вырасти, чтобы наконец влюбиться.
Следующий по старшинству был Марио. Он возился со мной и Джеральдом и, хотя был уже почти взрослый, с готовностью вписывался поиграть в Андре Гиганта и Железного Шейха[86]. Он звонил мне со второй линии и говорил голосом Айрин Кары[87], чем доводил меня до слез. По утрам я на цыпочках входил в его комнату, пробирался меж разбросанных носков, салфеток и теннисных мячей и будил, чтоб он отвел меня в школу, предвкушая, как он, придерживая сзади за шею, поведет, а то и понесет меня к автобусу.
Следующая по старшинству сестра — невозмутимая Шарлотта, поражала меня невероятными прическами и куртками университетской волейбольной команды; она водила нас с Джеральдом в «Баскин Роббинс» на пломбир с ананасовым сиропом и по пути встречалась со своим тайным возлюбленным, чтобы провести с ним всего десять минут. У нее я научился, что моя жизнь может быть только моей.
Мы с моим младшим братом Джеральдом наслаждались друг другом в полной мере, пока я не стал подростком, а он еще оставался ребенком; когда он приносил мне розданное в классе печенье, я отказывался, потому что на нем были глазированные клоуны и вообще это для маленьких. И все равно мы были лучшими друзьями.
Родителями всем нам были няни, не одну смену которых бабушка с дедушкой привезли из дома: филиппинские провинциалки, попав на Запад, со временем осваивались и уходили, чтобы начать жизнь, о которой даже не смели мечтать: Сула, вырастившая всех нас, бежала по снегу босиком со мной на руках в больницу, когда у меня случились судороги, а потом разбила мне сердце, выйдя замуж; Эстельита, худенькая, элегантная и степенная настолько, что заботилась о нас, совсем не умея играть; Хуанита, которая учила нас песенкам и играм своего совсем еще недалекого детства, мы передразнивали ее акцент и неожиданное словоупотребление; сестры Бинг и Нинг — одинаково терпеливые, одинаково любящие, одинаково недооцененные.
Так проходили дни: серый дождь, проезд по мосту Лайонс-Гейт, я сижу на заднем сиденье, окна опущены, по радио CFOX играют Level 42, Хьюи Льюис и Стив Уинвуд; карточки с хоккеистами; зуд в коленках на Последней Скорбной Мистерии со «Славой Отцу» и десятью «Богородица возрадуйся»; мой фиолетовый школьный свитер и галстук; слухи о монахах, которые преподавали в других классах, а до этого растлевали мальчиков в сельских школах Нью-Брансуика и Онтарио; как я описался во время классного собрания, потому что стеснялся отпроситься, а потом утверждал, что сел на что-то мокрое; лед на затылке, биение сердца в ушах, широкое небо в глазах, когда тренер-конькобежец звал меня, а я не отвечал. Потом пубертат: первый одинокий волосок; позывы непонятно к чему; отчаянные эксперименты о стену, а то и с картонками от туалетной бумаги; сворованный у Марио дезодорант «Райтгард» с ароматом лимона; комиксы «Хеви-метал»[88], которые Хесу держал у себя под подушкой, и идеально нарисованные европеоидные девушки в них, которых я, затаив дыхание, дырявил глазами; и, наконец, облегчение, открытое благодаря электромассажеру, который дед держал рядом со своим раздвижным автоматическим креслом, и новаторскому применению этой «волшебной палочки „Хитачи“» во время трансляции клипов Мадонны или Аланы Майлз по музыкальному каналу. Голос стал ниже, контактные линзы сменили очки, каждый вечер я смотрел шоу Арсенио Холла, New Kids on the Block были «мега», стал носить пуловеры со стоечкой, подкалывать мешковатые штаны и затачивать волосы, чтоб они стояли как можно выше; научился танцевать под Эм-Си Хаммера и Кролика Роджера, шатался с друзьями по молу, New Kids on the Block стали «тормозами», ходил на школьные танцы, где под «Лестницу в небо» одна чикса подтягивала мои грабли со своей задницы, пока Пейдж, Плант, Джонс и Бонэм не дали року, а нам с ней пришлось разлепиться, чтобы посмотреть друг на друга последний раз перед тем, как включат свет. И вот когда все уже стало налаживаться, Дуля с Булей усадили нас шестерых для серьезного разговора. «Время пришло, — сообщил нам дед. — Мы возвращаемся на Филиппины».
* * *Из рассказа Криспина «Положение обязывает» (1990): «Эфрен дель Паис — джентльмен, землевладелец, полон благих намерений». Он с готовностью, чуть не с рвением встречает ВАР[89], противоречивую земельную реформу, по которой крупные, находящиеся в частном владении участки распределялись между обрабатывающими их арендаторами. Большинство землевладельцев противятся реформе, нередко применяя насилие, — наемники запугивают бедных фермеров и местных чиновников. Землевладельцы поизворотливее воспользовались лазейкой в законодательстве и скупают землю у своих бывших арендаторов, потому что те не могут ее содержать. Тем не менее дель Паис надеется послужить хорошим примером. Пожилой помещик, воспитанный иезуитами, имеющий представления о Гоббсе и Локке[90], жертвует своими обширными владениями, оставив себе лишь отчий дом, где родились он сам и его дети. Жена умерла, сыновья уехали в город, дочки удачно вышли замуж, и дель Паис испытывает глубокое удовлетворение, раздавая ценные советы и ссуды «под божеский процент» забравшим его землю арендаторам. В конце концов, многих из них он знает всю жизнь. «В последние годы дель Паис обратил свой взор на дела духовные и возложил свои чаяния на Господа и законы человеческие».
Эту историю я помню по двум причинам. Во-первых, в этом рассказе Криспин наиболее подробно рассказывает о Свани (два баньяна на границе сада; кедровые полы в доме, «отполированные до такого блеска, что иная женщина в юбке могла бы и смутиться»; резной потолок в столовой, персидские ковры «с быстро цветущим во влажном климате грибком», карточный столик «с бороздами, протертыми локтями, тревогами, надеждами, удачей», где его мать устраивала партии в маджеральд и пусой-дос). Во-вторых, в этой истории содержится моральный парадокс относительно изменившихся моделей поведения и суровых реалий неофеодального общества. Рассказ заканчивается так: землю, которую дель Паис роздал с такой готовностью, скупили соседи-землевладельцы, успевшие уже вернуть свои поместья. У дель Паиса остается дом и проценты от скромного состояния, «земля его отца и деда потеряна, а сам он окружен со всех сторон и чувствует себя осажденным алчностью людей, которые когда-то были ему ровней, а теперь вдруг стали в чем-то выше, а в чем-то много ниже его». В последней сцене мы видим, как старик стоит в саду и глядит на свой дом «так, словно тот охвачен огнем».
* * *Нашего юного протагониста поразила внешность Лены («Криспин в юбке, — запишет он, — нестрашное пугало в цветастом балахоне») и разочаровало поместье Свани. Да, по-прежнему зеленое: монструозные баньяны, лужайка, которую все еще маникюрят, как поле для гольфа. Высокая каменная башня, разрушенная артиллерийским снарядом еще в войну, восстановлена и теперь служит вышкой сотовой связи. Сам дом — мрачный, расшатанный, в заплатах, ржавеющие кондиционеры текут, перламутровая инкрустация на деревянных ставнях потрескалась или выпала, обвалившиеся участки черепичной кровли прикрыты жестяными листами. Интервьюер и интервьюируемая сидят на улице. Да и сама сестра вызывает в нем смутное разочарование. Она нервно теребит трость. Стихотворение Уолта Уитмена, говорит она, было как нельзя уместнее на похоронах ее брата, хороший выбор для почившего атеиста, который верил в божественность всех вещей.
* * *— Где? — спросила Дульсе.
— Вон, — отвечал садовник, — то, у которого корни вместо веток. С ним надо быть начеку, иначе вернемся туда раньше времени.
С толстых веток свешивались жилистые усики и, обвивая ствол, уходили глубоко в землю. Дульсе показалось, что висящие конечности похожи на занавески, а корни — на узловатые пальцы ног садовника. Школьный учитель научил Дульсе местным названиям здешних деревьев — нара, бакауан, альмасига, кама-гонг. Это называлось балете или морасеа, но большинству оно известно как баньян. От одного его упоминания у Дульсе по спине пробежали мурашки.