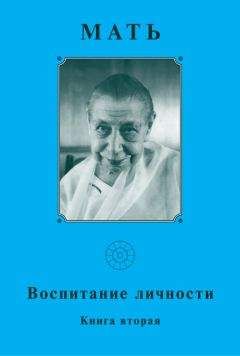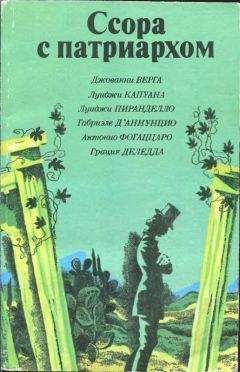Алексей Каплер - «Я» и «МЫ». Взлеты и падения рыцаря искусства
Прошло два месяца.
Свинцовым стало море.
Пожелтели сады.
У подъезда больницы чернобородый, старорежимный еще дворник подметал опавшие листья и ругался:
– А ну, давай отсюда. Стал, подумаешь, генерал-губернатора встречать…
Шофер, к которому обращался дворник, подал свой «Австро-Даймлер» немного назад, и дворник стал свирепо сметать оставшиеся под машиной листья в железный совок.
Длинный, низкий «Австро-Даймлер» выпросил на этот случай товарищ Мазепов у своего дружка – начальника порта.
Выписывали из больницы Робку Бойцова.
То, что произошло с ним, взволновало весь город.
Судакова и Карапетяна судили и дали им по пяти лет.
Вика была оправдана, ибо Робка, давая показания приезжавшему в больницу следователю, утверждал, что она не имела никакого отношения к бандитам.
Не было дня в течение трех месяцев пребывания Робки в больнице, когда его не навестили бы друзья – грузчики или оркестранты оперного театра. А то и те и другие в один день.
Приносили угощения, книжки.
И вот – наступило время выписки.
Встречал Робку товарищ Мазепов и местком оперного театра в полном составе вместе с членом месткома товарищем Ткачом.
Встречал Вася Деревенский и еще пять грузчиков с ним.
Вышел с узелком в руках похудевший Робка с черной повязкой вокруг головы.
Робку обнимали, пожимали руку, а Ткач – Викин отец – шепнул «спасибо», – ведь Робка спас его дочь от тюрьмы.
И потекла по-прежнему жизнь в музыкантском доме.
Робка еще не ходил на работу, посиживал, читая у окна.
Он очень редко выходил из дому, когда нужно было сходить в лавочку – купить что-нибудь.
Вику он не встретил ни разу.
И вдруг – это было в воскресный день – Робка услыхал крики. Крики совсем не похожие на те, что частенько слышались во дворе, когда ссорились соседки или кто-нибудь являлся домой подшофе и ему попадало от рассерженной супруги.
То, что послышалось на этот раз, было криками ужаса, криками потрясенных чем-то людей.
Робка выглянул в окно и увидал, что несколько человек бегут через двор в подворотню, на улицу. Робка бросился вниз по лестнице.
Вика лежала на блестевших после дождя булыжниках лицом вниз. Одна рука была вытянута вперед, другая загнута за спину, как у сломанной куклы. В кулаке зажат носовой платочек.
– Я сама чуть что не умерла, – говорила тетя Клаша, жилица первого этажа, – как птица, понимаешь, падала с этой проклятой доски… Так и летела, как птица, на моих глазах, как какая птица…
– Сорвалась-таки, – всхлипывала другая соседка. – Я же всегда говорила, сорвется она когда-нибудь… Разве они думают о родителях…
– А я иду, задумался и вдруг замечаю – доска так и заходила… Я с угла шел, увидал. Заорал, а она уже лежит…
Зеваки смотрели на доску, что все еще торчала в высоте, из окна шестого этажа, на фоне радостного голубого неба.
Быстрым шагом шел к месту происшествия милиционер.
С воплем выбежала из подъезда Викина мать.
И во всей этой суматохе никто не заметил стоящего у стены бледного паренька с черной повязкой на голове, никто не видел его мертвых глаз.
Через два дня после того, как похоронили Вику, Робка получил по почте письмо.
Тот день был серым, ветреным. Гнало по мостовым.
Это было первое письмо в жизни Робки.
Он повертел удивленно конверт, прочел свое имя. Почерк он видел впервые.
Наконец надорвал конверт и вынул листок тетрадочной бумаги.
Это было письмо от Вики, отправленное ею утром в день смерти.
«Почему я пишу тебе, Робка, сама не знаю. Хотела было послать тебя куда-нибудь подальше. Какого, собственно, черта ты меня выгораживал у следователя? Кто тебя просил, скажи, пожалуйста? И куда же твоя правдивость девалась? Врал, как последний. А может быть, мне эта тюрьма больше всего и нужна была? Может быть, я там бы опомнилась? Дурак ты, Робка, настоящий дурень. Проснулась сегодня, вижу – солнце светит, ветер занавеску, как флажок, поднимает, и вдруг я так ясно поняла, что не имею уже к этому никакого отношения, да и ни к чему другому в жизни. Это все меня уже не касается. В общем, точка. Привет издалека, Лопушок.
Вика»
Возвращение броненосца
Случилось это весной не то в одна тысяча девятьсот двадцать четвертом, не то двадцать пятом году.
Заведующий одесским Посредрабисом сбежал. Не пришел на работу ни утром, ни днем.
К вечеру секретарь – он же и единственный, кроме заведующего, сотрудник этого учреждения – отправился к нему домой.
Там он узнал о бегстве товарища Гуза, о том, что тот сел накануне в поезд и укатил в Ленинград.
Отдел труда и правление Союза работников искусств, которым подчинялся Посредрабис, назначили срочную ревизию.
Комиссия, созданная для этого, однако же, с недоумением обнаружила, что все финансовые дела в полном порядке. Составили об этом акт.
Гадать о причинах бегства Гуза, собственно, не было нужды – они были ясны.
У Бориса Гуза – маленького, круглого человечка – был тенор. При помощи этого тенора он издавал звуки оглушающей силы и сверхъестественной продолжительности.
Фермато Гуза могли выдерживать только одесские любители пения. Они вжимали головы в плечи, их барабанные перепонки трепетали последним трепетом, вот-вот готовые лопнуть, – но одесситы при этом счастливо улыбались – вот это-таки голос!
Гуз несколько раз обращался к начальству с просьбой освободить его, так как здесь, в Одессе, он уже «доучился», а в Ленинграде хотел совершенствоваться у – не помню какого – знаменитого профессора бельканто.
Но в обоих почтенных учреждениях к артистическим планам Гуза относились несерьезно: да, голос, да, верно… Но голос какой-то «дурацкой силы». Есть слух, это правда, но ведь никакой музыкальности…
В общем, пророк в своем отечестве признан не был. А в Ленинграде он вскоре стал известным оперным певцом.
Я слушал его однажды в «Кармен». Гуз был в то время уже премьером оперного театра и пел партию Хозе.
Он вышел на сцену – маленький, круглый, с короткими ножками и ручками, в курточке с золотыми позументами, толстенькие ляжечки обтянуты белыми рейтузами… сверкающие сапоги на высоком – почти дамском – каблуке.
И запел…
Это было невыносимо.
Меня поражало отношение к Гузу ленинградских музыкантов: как они могли его терпеть?
Бесчисленные хвалебные рецензии, огромные буквы его имени на афишах – все говорило о колоссальном успехе, о признании.
Видимо, и здесь настолько высоко ценился голос, сила и чистота звука, что все остальное ему прощали – и отсутствие артистизма и вкуса, и смешную внешность, и одесский, о какой одесский! – акцент.
В память Одессы я терпеливо прослушал целый акт, глядя на то, как коротенький дон Хозе пылко изъяснялся в любви крупногабаритной Кармен, делая традиционные оперные движения, не имеющие ровно никакой связи с содержанием арии. Он то разводил руками, то протягивал одну из них вперед, в публику, куда и обращал тексты, предназначенные стоявшей в стороне любимой.
Она же пережидала арию Хозе, тоскливо упершись в талию кулаками, и по временам пошевеливала бедрами, приводя тем в движение свои многослойные яркие юбки.
Но вот Гуз брал с легкостью верхнее до и держал его так долго, что казалось, в конце этого фермато певец обязательно упадет замертво.
Но Хозе не падал, а все тянул оглушительный звук, и публика (ленинградская публика!) неистово аплодировала и кричала «бис!»
Я угрюмо наблюдал это, понимая, что молодость прошла, ибо раньше со мной тут обязательно случился бы припадок истерического смеха.
Теперь мне все это казалось только грустным.
Новый заведующий Посредрабисом появился в Одессе неожиданно.
В тот день, как всегда в шесть пятнадцать вечера, в Одессу прибыл петроградский поезд.
Из первого вагона вышел на перрон очень высокий, худой человек с кавалерийской шинелью на одной руке и потрепанным фибровым чемоданом в другой.
На Андриане Григорьевиче Сажине был френч с обшитыми защитной материей пуговицами, галифе, сапоги.
Сажин поправил очки на носу, огляделся и увидел белогвардейского офицера.
Их было тут много, белых офицеров, – один свирепее другого, и пассажиры испуганно смотрели на них.
Но вот, усиленная рупором, раздалась команда режиссера: «Белогвардейцы налево, чекисты направо! Шумский, приготовились!..»
Пассажиры успокоенно заулыбались. Часть перрона – место съемки – была отгорожена веревкой. В стороне – для порядка – стоял милиционер. Светили юпитеры.
– Внимание! – кричал режиссер. – Шумский, бросайтесь на студентку! Стоп! Разве так каратель бросается на революционерку! Как зверь бросайтесь! Внимание! Начали! Стоп! Послушайте, курсистка, вы же абсолютно не переживаете! Он вас сейчас убьет или изнасилует, а вы ни черта не переживаете! Внимание! Начали… зверское лицо дайте… так… Хватает ее… Курсистка, переживайте сильнее… так… душит… хорошо… очень хорошо… падайте же… так… стоп!