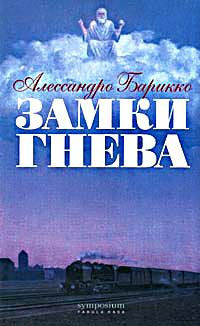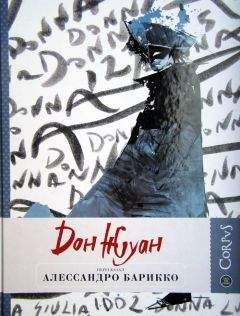Алессандро Пиперно - Ошибка Лео Понтекорво
Этот типаж встречался не только в его среде, но повсюду: достаточно было прогуляться по центру города в субботу вечером, чтобы столкнуться с чуть более грубыми копиями таких девочек. Все в этом мире стремилось к равенству. Исчезали по крайней мере, на уровне эстетики, классовые различия, а мода, несмотря на некоторое уважение к иерархической системе, открывала преимущества экуменизма.
Предположим, что какой-нибудь догадливый коммерсант приобрел партию кофточек из белого или розового плюша с большой надписью спереди и убедил модниц своего района, что эти куски ткани самые классные, — можешь не сомневаться, что через несколько месяцев эти кофточки распространились бы по всем улицам Рима, подобно смертельной эпидемии, а потом и по всей стране, заражая миллионы девушек. Так вот, плюшевые девочки, наводнившие гостиную и сад Лео тем вечером, могли считаться, учитывая их положение, выразительницами общественного вкуса.
И все-таки речь шла о воспитанных и приличных девочках, единственная вина которых (если они вообще считали это виной) заключалась в том, что они в свои двадцать лет были освобождены от мятежности духа, укрывшись в уютном конформизме, который, в отличие от конформизма их прародительниц, открыто признавал себя таковым. Странно, но часто самой благонамеренной эпохе, вопреки ожиданиям, присуще меньше притворства. И тем не менее Лео (и в определенном смысле Рахили) нравилось, что первой подругой, которую Сэми привел в дом, оказалась вовсе не плюшевая девочка. Супруги Понтекорво отличались достаточно филистерским образом мыслей, чтобы считать, что оригинальность сама по себе штука хорошая и поучительная.
Особым искусством этой девчушки было умение исчезать, быть незаметной. Все в ней как будто говорило о страстном желании анонимности: цвета одежды (кстати, довольно изящной и скромной), колеблющиеся между серым и бледно-коричневым. Ее подвижная и гибкая фигурка, настолько худенькая, что вызывала в памяти хрупких поэтесс начала века или голодающих пакистанских детей. Волосы, мягкие и пышные, слишком рыжие, чтобы заставить эту маленькую маоистку усмирить их, уложив в пучок на сельский манер. Цвет кожи — молочный — также придавал ей незаметности и успокаивал. Не говоря уже о тупом, упорном молчании, за которым она пряталась, как черепаха под своим панцирем.
Наверное, именно поэтому Лео и Рахиль почти не обратили на нее внимания, когда за пару месяцев до праздника Сэми в первый раз пригласил ее к ним домой. Тогда во время ужина вчетвером они были вынуждены подавлять порывы нежности и смешки, чтобы не потревожить чувства двух голубков, отложив их до того момента, как они наконец окажутся одни в кровати. Супруги Понтекорво освободились от элегантных одежд, которые Сэми, бог знает почему, требовал от всех участников того сюрреалистического ужина. Они уютно устроились на льняных простынях и, посмеиваясь, обсуждали поведение сына:
«Ты заметил, что наш малыш едва дышал? А как у него дрожал голос? А когда он наливал ей воды? А как он положил салфетку на колени…»
«Послушай, это ты купила ему тот белый пиджачок? Он похож в нем на гнома из того телесериала, которым дети меня замучили… Ненавижу этого гнома и его хозяина-педика…»
«Не могу поверить, что наш Сэми…»
«Наш Сэми что? Мужчины из рода Понтекорво все такие. Скороспелые, решительные, предприимчивые, безупречно одеты и нацелены на добычу… но ведь и воспитаны отлично».
«Мне так хотелось расцеловать его в щечки, когда я видела его взволнованное личико».
Видите, почти ни слова о девочке. К чему было обращать внимание на столь бесцветное создание, когда можно было бесконечно умиляться своим прелестным мальчиком? Разодетым, как южноамериканский плейбой, с волнистыми светлыми волосами, немного крючковатым носом, выдающим происхождение и делающим его красоту неуклюжей, симпатичной и в определенном смысле романтичной. Он был великолепен. Лео и Рахиль радовались и гордились сыном. Для них было естественным обсуждать поведение сына, забыв о его подружке.
Красноречие, которое выказал Сэми, перечисляя многочисленные достоинства Камиллы, было в тысячу раз интереснее сдержанной и скромной реакции девочки на расточаемые ей комплименты, которые она отвергала недоверчивым взглядом.
Именно поэтому тем вечером в кровати, пропитанной кисловатым запахом простыней, которые по настоятельной просьбе Лео летом меняли чуть ли не каждый день, родители комментировали смущение Самуэля. Благородство души, которым было вызвано это смущение. Они и помыслить не могли, что именно этой девчонке уготовано уничтожить все (включая льняные простыни).
Впервые Лео по-настоящему заметил Камиллу, когда ее забирали родители. Это случилось как раз на дне рождения Самуэля. Когда они пришли, Лео еще носился с фотоаппаратом на шее. Рахиль потребовала, чтобы муж предоставил в распоряжение семьи свою дилетантскую (и недешевую) страсть к фотографии. Она вынудила его исполнять утомительную роль официального фотографа этой скучной вечеринки в саду, заполненном плюшевыми девочками. Рахиль вела счет всему тому множеству фотографий, сделанных мужем за последние двадцать лет, а также не сделанных за означенные двадцать лет. Ей не нравилось, что Лео захламляет дом черно-белыми пейзажами, небоскребами на закате, снимками незначительных предметов: жалких сигаретных пачек, кофейных чашек с отбитыми краями, сандалий, забытых на пляже. В общем, натюрмортами. Натюр морт — мертвая природа. Какое верное определение. Муж фотографировал только мертвые бездушные предметы. Причем он делал это на совесть. А стоило его попросить сделать «нормальный» снимок, например сыновей, которые учатся кататься на велосипеде, жены в вечернем платье или позирующей перед Эйфелевой башней, Лувром, да где угодно, черт побери, полный пустяк… Что здесь начиналось! Когда его просили об этом, художник чувствовал себя оскорбленным.
«Зачем делать фотографии, похожие на открытки? — вопрошала она его, в отчаянии пересматривая его экстравагантные снимки после очередного путешествия. — Какой в них смысл, если на них нет людей?» Этот комментарий каждый раз возмущал художника. Как такое можно говорить, какая вульгарность! Но в тот вечер Рахиль выразилась ясно: «Не хочу фотографий со скомканными бумажными салфетками. Никаких цветочных орнаментов. Не хочу развернутой ретроспективы, посвященной черепичной крыше. Я хочу снимки своих сыновей и их друзей! Понятно?»
Понятно. И упрямому Лео ничего не оставалось, как скрупулезно выполнять убогие распоряжения заказчицы, потратив вечер на фотографирование своих сыновей и их друзей, относясь с особым вниманием к имениннику и его пассии.
Это продолжалось до тех пор, пока он вдруг не заметил странную пару взрослых, которые вошли в сад и направились ему навстречу с несколько растерянным видом.
Наконец-то достойный объект для съемки! Лео даже не смог сдержаться и крикнул: «Стойте там, не двигайтесь!» Он имел право приказывать, как художник, который после многочасового поиска наконец увидел на лице модели нужное выражение. И оба незнакомца остановились как по команде, позволив Лео наброситься на них, подобно профессиональному папарацци. Надо отметить, что они действительно были достойными моделями.
Речь шла о еще довольно молодой, но импозантной паре. Можно было не сомневаться, что он был королем беговых дорожек, а она питалась только овощами и фруктовыми салатиками из клубники, дыни и киви. Кокетливо-заговорщицкий взгляд, который синьора бросила на фотографа, может быть, говорил о том, что хорошие манеры не были ее сильной стороной, однако в аэробике ей точно не было равных.
Странная парочка была одета в желтые дубленки, подбитые мехом, которые казались совершенно неуместными теплым весенним вечером. Взгляд Лео задержался на волосах мужчины. Они ниспадали до самых плеч: такое мог себе позволить только мальчик до шести лет (кстати, при взгляде на эти волосы становилось понятным, в кого Камилла уродилась такой рыжей). Однако между этой сорокалетней парой, на чьей коже крем для загара оставил оранжевый сверкающий налет, и их лунно-бледной дочерью была большая разница.
Хроматический диссонанс, по всей видимости, был только частью того сложного противоречия, которое существовало между Камиллой и людьми, давшими ей жизнь, в которой она старалась быть как можно более незаметной. Она стыдилась родителей в той степени, в какой они были не в состоянии понять свою странность. Это объясняло, почему Камилла в тот вечер старалась побыстрее ускользнуть, тогда как они, напротив, жаждали остаться подольше. Ей не хотелось показывать своим любимым Понтекорво, насколько нелепы и смешны ее родители, они же хотели понять, что особенного в этих Понтекорво, чтобы заставить их единственную дочь проводить с ними большую часть времени.