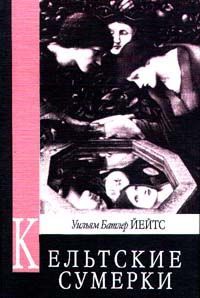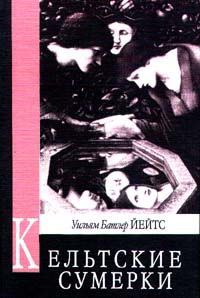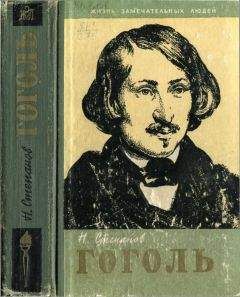Евгений Титаренко - Критическая температура
Первый, самый трудный вопрос, полагая, очевидно, что это ее неоспоримое право и обязанность, задала все та же Инга. И голос ее, который по замыслу должен был звучать строго, дрогнул при этом:
– Стас… Почему ты… заявление написал?
Стаська вынимал из парты тетради. Услышав обращенный к нему вопрос, положил их назад и уставился на Ингу долгим, ничего не объясняющим взглядом.
Он словно бы похудел или повзрослел за сутки. Но если и раньше в лице его нередко проступала жесткость, теперь оно казалось просто жестоким.
– Ты знаешь, о чем подумали все?! – Краска прилила к лицу Инги Суриной до того, что глаза ее стали влажными.
– Нельзя так, ребята… – испуганно пробормотала Лялька.
– Это ты сделал, Станислав? С письмами – ты? – вдруг строго спросила Кира Рагозина. – Тебя видели во дворе…
Стаська переводил воспаленные глаза с одного лица на другое.
– Почему ты не защищаешься, Стас?! – срывающимся голосом выкрикнула Инга Сурина.
Инга, а не Милка, которой полагалось это сделать. Милка лишь загнанно и беспомощно посмотрела на Юрку. Тот, сразу поднявшись, хлопнул откинутой крышкой парты.
– Я это сделал!.. Я! – повторил он. – Что вы пристали к человеку?!
Ярость в лице Стаса ненадолго сменилась изумлением. Но взгляд его упал на Милку, и в темных его глазах затаилась прежняя, глухая жестокость.
Ашот вскочил следом за Юркой, так что никто не успел среагировать на Юркино заявление.
– Врешь! – сказал он Юрке. – Не ври!
Юрка пожал плечами и усмехнулся, опускаясь на сиденье парты. Милка взглядом поблагодарила его: своей неразумной выходкой он снял то недоброе напряжение, что воцарилось в классе.
– Кто это сделал, знаю один я! – заявил Ашот. – Его здесь нет! И не ищите!
«Лжет!.. Лжет!..» – с ужасом подумала Милка. В ее памяти, кажется, еще никто не лгал так беспомощно, как на этот раз Ашот. И неуклюжее вранье его свидетельствовало, что он вместе со всеми подозревает Стаса. Подозревает или знает, что это он?!
– Почему ты написал заявление?.. – спросила Инга уже тихим, виноватым голосом.
И Стаська впервые разжал бледные губы:
– Потому что я больше не хочу учиться в этой школе…
Звонок прозвучал как избавление.
* * *Милка выскочила из класса в числе первых. Выскочила, как из мышеловки, чтобы затеряться в коридорной неразберихе, среди веселых, не отягощающих себя ни пустопорожними раздумьями, ни жизненно важными поступками малышей. И еще втайне надеялась поймать кого-нибудь с глазу на глаз: Юрку, или Ашота, или Стаську, если тот надумает сбежать из школы, – все они что-то скрывали от нее! О Клавдии Васильевне Милка старалась не думать, ибо все и так было достаточно скверным. Но ей не удалось ни затеряться, ни переговорить ни с кем, потому что она сразу налетела на девчонок из десятого «б» и вынуждена была полностью возвратиться к той же невеселой истории: в десятом «б» на уроке Неказича обнаружилось еще одно послание неизвестной.
Судя по всему, это было ее последнее письмо. Продолжений ждать не следовало.
«Родной мой! Милый мой! Добрый мой, славный мой!» – все так же начинала неизвестная.
«Сегодня я к тебе с надорванным сердцем, с плохими вестями. От этого не уйти. И плачу я сейчас вволю. Как никогда не плакала. Сегодня это можно.
Мне бы следовало все сказать тебе раньше. Но, слабосильная, всячески обманывая себя, ждала я этой единственной возможности высказаться издалека. Чтобы не увидел ты, как спешу я и как трушу при этом. Спешу от самой себя, и, наверное, потому не получится у меня на этот раз ничего последовательного. Впрочем, ты поймешь меня. Лишь бы ты меня понимал. Остальное не имеет значения.
Сколько раз, присматриваясь к ученикам, я ловила себя на ощущении, что все они (да и мы тоже!) далеко не такие, какими представляются. На словах мы знаем, что не природными задатками красен человек – они, пожалуй, равны у нас. Ценность человека измеряется его действенным проявлением в обществе. И при всем при том, родной, все наши будничные оценки относительны. Ибо наступает однажды температура минус 273, и совершаются невероятные превращения. Такой я представляю атмосферу боя. Ты воевал, ты знаешь, я могу только догадываться. Наступает минус 273, и масса, чрезвычайно объемная вчера, на глазах обращается в нуль. А расплывчатая, внешне инертная форма вдруг превращается в кристалл.
Совсем девчонкой, голоногой, курносой, я обрекла себя на одиночество. Хорошо помню это. Я поссорилась с бабушкой. Повод был самый незначительный, обиходный. Но бабушка высказала мне ту расхожую истину, что синица в руках предпочтительнее журавля в небе. Я ушла обижаться на нее к реке. А в детстве маленькие обиды наши, пожалуй, быстрее и естественней принимают вселенские масштабы, нежели в пору зрелости. Я хорошо помню затененную еловым бором речку, темно-бордовую зарю над тайгой и свое первое упрямое решение на всю жизнь, что проживу ее трудно, что проживу одиноко… и пусть всего лишь с мечтой, но – о журавле в небе, нежели с заведомой синичкой в руках…
Мне страшно повезло однажды. Когда я встретила тебя: мечта ли моя снизошла ко мне? я ли до нее возвысилась?
Но об одном я позабыла при этом, одного не учла… И сегодня я отпускаю тебя в небо.
Слепая от счастья, я думала, не приношу зла, ничего не требуя от тебя… Приношу! Отнимая тебя у семьи, у детей хоть на час, хоть на минутку. Надеясь, что когда-нибудь отниму вовсе…
Я не случайно упомянула о войне. В поисках возможных решений я, грешница, часто возвращалась к ней. Я бы хотела одна там быть, рядом с тобою, одна врачевать твои раны. И мимолетно возникала совсем уж преступная мысль: что – если бы война… А я – рядом.
Я, родной, обязана уйти в сторону. Твои дети растут. Многие из житейских тайн им уже сегодня, почти как нам, понятны. И вольно или невольно заставляя тебя раздваиваться, я в чем-то обездоливаю их. К тому же не покидает страх, что однажды по неведомым причинам тайное станет общеизвестным… Я боюсь представить себе возможные последствия этого.
В последние месяцы, особенно в последние дни я замечала, что ты обо всем догадываешься, и взгляд твой становится час от часу тревожней. Как больно мне от этого! И нельзя иначе.
Когда надо, я весьма практична. Я давно задумала свой коварный план. Трудно было только осуществить его, тем более, что я не имела права ни поговорить, ни посоветоваться с тобой. Я просто не выдержала бы. Я бы непременно спасовала перед тобой, а этого нельзя допустить. На помощь, как уже не раз, пришел наш с тобой добрый гений – человек, который всю жизнь так или иначе устраивает чужие судьбы и, скорее всего, потому не нашел времени устроить свою. Она все поняла с полуслова. Ох, и ревели же мы в тот вечер! Ты даже не представляешь, до чего сладки они, эти горькие бабьи слезы!
Я, милый мой, обязана отойти.
Я люблю тебя – и поэтому обязана! Я не могу без тебя – и поэтому обязана вдвойне! Я не мыслю без тебя земли, деревьев, воздуха, тротуаров – и поэтому не могу иначе!
Иногда льщу себя обманчивой надеждой, вроде бы в чем-то, в главном все остается, как было: и те же самые рассветы будут вставать для нас, так же будут вспыхивать по вечерам твои незатухающие, грустные окна… Но сейчас нужно исключить даже мысль об этом, сейчас я не должна оставлять для себя никакой лазейки, должна приготовиться к тому, что все будет уже не так – и рассветы, и окна… Благо, что самое-самое трудное пока впереди. Мнительная и суеверная, каким-то адским испытанием представляю я грядущую новогоднюю ночь – она должна стать уже больше чем наполовину без тебя.
Боже! Как не хотелось мне терзать твою душу! Как хотелось показаться рассудительной, спокойной. И – ты заметил – я начала довольно по-деловому. Я не хотела эмоций. Я не хотела слез. Ты, пожалуйста, учти это. Ведь ты мужчина и воин. А я – бабенка, и у меня опять ничего, кроме журавля в небе…
Уделяй побольше внимания своей девочке. У нее папина впечатлительность. Это небезопасно в ее теперешнем возрасте. Береги себя. Для всех для нас.
Все. Не прощай, нет. Но… прости, милый! Наступила критическая температура, надо кристаллизоваться, надо выдержать.
Целую тебя, как никогда уже…»
Милке хотелось кричать. Кричать или выть, реветь белугой! Она никогда не слышала и не представляла себе, как может реветь белуга. Но, вспоминая впоследствии охватившие ее при чтении письма чувства, она определяла их для себя этой загадочной и вместе с тем очень точной формулой: ей хотелось орать до спазм в горле! И, как та же белуга в рыбацком неводе, билась в голове Милки, не находя выхода, одна шальная и беспомощная мысль: «За что?!» За что все это на Милку? Словно бы в чужих горестях была виновата прежде всего она. И словно бы настало время расплачиваться… Тяжело и горько было Милке, когда она дочитывала письмо.
Даже девчонки обратили внимание на ее изменившееся лицо, полюбопытствовали, что с ней.
– Ничего! – ответила Милка, возвращая им, будто отшвыривая от себя, злосчастное послание. – Голова болит! – приврала она, уже не глядя на девчонок.