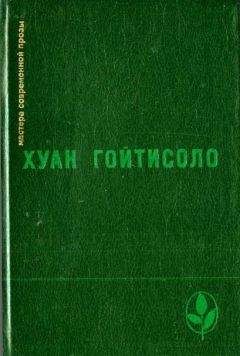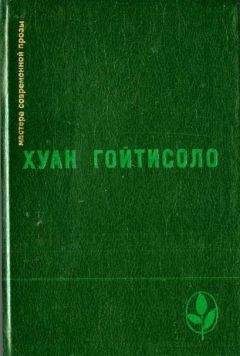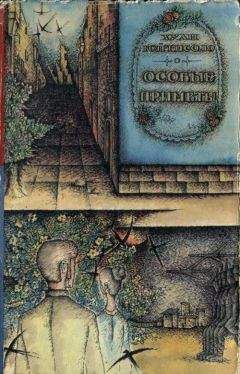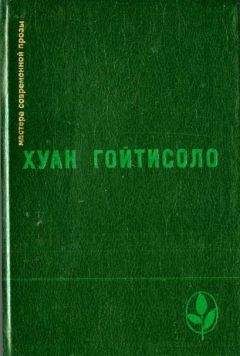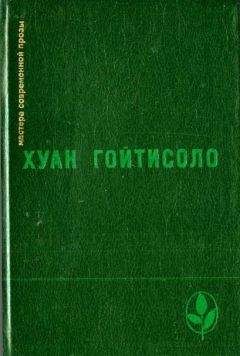Анатолий Усов - Роман с Полиной
Я поставил «семерку» за березами и увидел, что «четверка» с преследователями свернула с шоссе и поехала по моей колее. Быстро, однако, они собрались с мыслями. Я взял автомат и побежал по тропинке, кто знает, может, придется отстреливаться.
Я быстро добежал до железнодорожных мостов через Сетунь. Какие-то беспризорники привязали к трубам пожарный шланг и раскачивались на нем с одного берега на другой. Тяжелый товарный состав грохотал над их головами.
Чтобы не смущать никого «калашом», я завернул его в куртку и увидел, что от строящихся «Золотых ключей» спешат в моем направлении три милиционера с автоматами наперевес. Я отступил в лес и услышал, что со стороны Матвеевского перемещается в мою сторону оживленное собачье тявканье.
Это могла быть просто собака, а могла быть и собака-ищейка. Если ловят меня, все же непонятно почему и за что.
Жалко, конечно, но делать нечего, я спустил автомат в Сетунь и запомнил место по пню и раките на другом берегу, он тяжелый, течением не унесет, туда же опустил «берету» и РП-2. Распылитель не утонул, поколыхался вниз по течению, выставив в небо маленькую изогнутую рукоятку.
Все-таки скорее это ищейка, мне казалось, я когда-то уже слышал это нетерпеливое повизгиванье больших служебных собак, когда они выходят на след. С деньгами нельзя попадаться, из-за денег наши менты убьют и скажут, что так и было.
Деньги у меня лежали в пластиковом пакете с портретом итальянской певицы то ли Чичоллини, то ли Чизоллини на одной стороне. Я плотнее скрутил пакет и затолкал в глубокое сухое дупло старого вяза. Я пожалел, что утопил в Сетуни пистолет, он спокойно мог бы лежать в дупле, и хотел, было, достать его, но повизгивание переросло в вой, из чащобы вылетела овчарка и кинулась на меня.
Я не боюсь собак, я схватил ее за уши и повалил на землю, однако следом вывалились милиционеры.
По русскому обычаю я не зарекался от сумы и был беден, но и был богат. Я не зарекался и от тюрьмы, и оказался в ней.
Вначале я сидел в изоляторе, там было нормально, следаки предъявляли мне какую-то чушь — будто я по сговору в группе с неким немолодым мужиком Камалем и недоноском Максимом воровал машины — и самое смешное были свидетели из полоумных пенсионеров, которые смотрели на меня тусклыми глазами ящериц и говорили: это он, длинный, стоял на стреме, а чурек ломал замки.
И что уже совсем дико, и Максим и Камаль тоже твердили при каждой встрече, что угоняли по сговору со мной машины — Максим будто раскодировывал своим хитрым изобретением дорогие противоугонные системы и сигнализации, хмурый Камаль вскрывал замки, а я угонял в какой-то отстойник в Солнцево.
Я возражал, меня возили в «прессхату» на Петровку, 38 и так прессовали, что я после этого мочился кровью. Но я терпел и приводил аргументы. Честно говоря, я не знал, что я такой стойкий.
Как-то привели в кабинет шалаву, она с ходу стала орать: это он, сучий потрох, он! У меня почки больные! Менты пустили ее, она кинулась на меня, стала пинать коленями между ног, царапать лицо, норовя ухватить когтями глаза.
— У меня почки больные! — кричала она. — Он повалил на лестницу! Избил по почкам ногами! Изнасиловал в простой, а потом в извращенной форме!
Ее посадили за стол, дали бумагу, она написала это все на бумаге. Клянусь, я никогда прежде не видел ее.
Когда … увели, мой следак майор Дорош положил на левую руку мои бумаги о моих псевдоугонах, на правую ее короткое заявление и сказал, балансируя ими, как на весах:
— Ты знаешь, блин, эта бумажка потяжелей, ты хорошо постарался, на двенадцать лет тянет, а эти максимум на четыре — ты умный, сам выбирай. Не хер делать тебе на воле, ты все не понял?
Я выбрал левую, залязгали за моей спиной замки и засовы.
«Навек закрылось мое солнце, не быть мне мужем и отцом» — кажется, так пели зэки на Сахалине, когда к ним приезжал молодой писатель Антон Чехов за туберкулезом.
Тюрьма — это и есть свобода?
Вдохнуть надежду в утомленных и поддержать стоящих на краю.
Я был слишком интеллигентен для этого быта, я был как домашний цветок в полевых условиях. Я вспомнил, как мой друг студент-историк Виталий Манжелли-Шибанов, желая понравиться Марку Захарову и может быть через это выползти в театральные кинокритики, написал ему трогательное письмо, в котором называл какой-то его телефильм орхидеей на картофельном поле. Я тогда смеялся над ним, а теперь и сам стал такой орхидеей.
Я не рассчитывал, что в тюрьме может быть хорошо, я много читал мемуаров о том, как сиделось политическим заключенным во времена сталинизма, как измывались над интеллигентами уголовники, одно время чуть ни каждый день перечитывал Шаламова. Мне нравилось его резкое отношение к русской литературной традиции…
Однако в Бутырке встретили меня нормально, правда, в камере, рассчитанной максимум на 30 зэков, нас было под 200, сидеть приходилось по очереди, спать лежа — недоступная роскошь для новичка. Зато обошлось без «прописки», которой пугали друг друга новички-первоходы в следственном изоляторе.
Конечно, в «хлебники» меня тоже никто не позвал, я был без передач, они мне вообще не светили — на воле ни родители, ни Володя не знали, что я в тюрьме, и никогда не узнают, я не сообщу им об этом, я напишу родителям из зоны только через два года, когда 22 мая 95-го вдруг почувствую, что умер дедушка.
Но мне предлагали доедать баланду за сытыми, о чем мог только мечтать Иван Денисович Солженицына. Мне было западло, я готов был скорее иссохнуть как мумия, чем пойти на это, но это уже другой разговор.
Да еще в первый день какой-то вихляла чересчур суетился, уговаривал пацанов «запетушить» меня всей честной кодлой. Я понимал, что это значит, и слышал не раз в ИВС,[5] что так бывает, будь ты хоть десять раз Героем России, если захотят, то сделают, и решил про себя, что лучше смерть, чем стать «Манькой» в тюрьме и на зоне.
А зачем мне жизнь? Я все равно не умею жить, и никогда не умел, и никогда по тупости и лени не научусь. И потом эта жизнь — только переходный период к настоящей и вечной жизни, где не будет ни болезни, ни печали, ни зла.
Как всегда от этой мысли мне стало легко и покойно. Я встал между двухэтажными, прикрученными к полу кроватями, оперся на них локтями, я заставил себя спокойно улыбаться и ждать.
Я дождался, когда вихлястый стал мельтешить передо мной на удобном, досягаемом расстоянии, и обеими ногами втырил ему в башку. (Его не стало, я сломал ему шею, это я узнал потом. Но никто из 200 человек не заложил меня. Все показали, он сам упал со шконки во время сна. Так что сами судите, какие в тюрьме нравы.)
Однако был шум, прибежал «режим», отметелил меня резиновыми амортизаторами свободы, уволок в ШИЗО.[6] Там я был свой, такой же избитый, как все, так же откашливался кровяными сгустками и писал кровью. С тех пор по-настоящему я так и не выздоровел, и не было у меня ни одного мгновенья, чтобы ничего не болело…
Не случайно режим носит маски, никто не знает, кто его калечил.
Что делать, я — не какой-нибудь американец, которым дорожит государство и который от этого сам дорожит собой. Я — русский, это изначальное условие той игры, в которую вступил, появляясь на этот свет. Я никому не нужен, и даже подозреваю, что никогда никому не был нужен, это главное и, пожалуй, единственное правило сей игры. Я иногда болею этим, и тогда передо мной, как перед каждым, встает вопрос, почему на моей родине так — самым ненужным оказывается человек, и каждый человек кому-то мешает и всегда лишний.
Может, кто чересчур умный знает ответ и на это, я нахожу только один, наверное, он слишком красивый и пафосный, но другого у меня нет — мы никогда ничего по-настоящему не созидали. Мы всегда только распределяли то, что нам было дано Богом, природой, судьбой, провидением. От этого идет все, в том числе и наши проблемы, мы — дети потребительства, мы с пеленок думаем, что нам все что-то должны, и не можем пережить, когда вдруг оказывается, что никто ни шиша нам не должен.
Тогда как жизнь — за детьми созидания.
Я вспомнил Японию и первую экспедицию адмирала Путятина на фрегате «Паллада». Япония и Россия — два антипода в географии, в исходном материале жизненного пространства и в созданной народонаселением судьбе.
Как в семье особенно никчемными вырастают дети, которых баловали, так, должно быть, и в мире никчемными оказываются народы, которые изначально имели больше, чем остальные. Они тратят время на разврат, как Содом и Гоморра, на строительство Вавилонских башен, ненужных плотин и социальные эксперименты.
Особняком, конечно, стоят и наши «большие» дела — только в прошлом веке мы трижды ставили себя на грань катастрофы… ни один народ не вытворял с собой такое.
Кто мы тогда такие — сообщество самоубийц? Или в этом и есть Высший промысел, мы для чего-то, что нам еще не известно, закаливаем этим себя, как кузнец закаливает булат, опуская его то в жар, то в стужу.