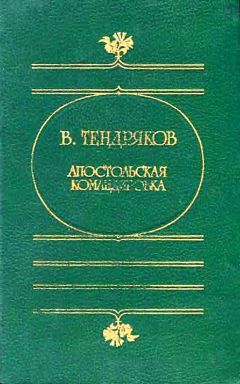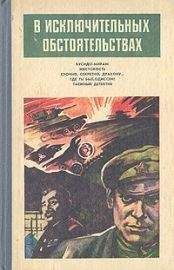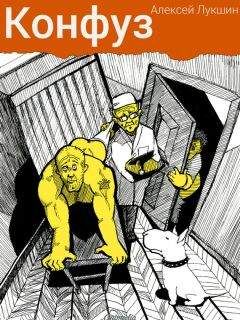Алексей Козырев - Трансплантация (сборник)
Денис быстро прикинул в уме своё расписание и договорился с Владимиром Михайловичем, что заедет за письмами завтра, около восьми вечера.
С букетом красных роз в начале седьмого он стоял у эскалатора станции метро «Чернышевская». Асата не было. И это тоже выглядело странно: обычно друг не опаздывал.
Прождав минут двадцать, теряясь в догадках, Денис собрался уж было уходить, но тут как раз появился взмокший Асат. В руках — традиционный «дипломат» и довольно громоздкая картонная коробка.
— Извини меня, ради бога, Денис! — Асат так запыхался, что еле мог говорить. — Закрутился совсем, а, когда посмотрел на часы, уже шесть. Бежал как мог. Вот, мокрый весь. Не обижайся!
Маленького роста, пухленький, действительно насквозь мокрый, Асат виновато смотрел на Дениса своими прищуренными коричневыми глазками.
Да Денис особо и не обижался — с кем не бывает!
И вскоре они уже ехали в сторону Финляндского вокзала. Прямо в противоположном направлении от дома Асата.
К ещё большему удивлению Дениса, они и вышли у Финляндского вокзала и сели в электричку на Зеленогорск.
Вопросов ничего не понимающий Денис решил Асату не задавать. Пусть будет как будет.
Обычно весьма разговорчивый, Асат тоже помалкивал.
Вышли они минут через двадцать на пустынной малоосвещённой станции.
— Подожди меня минуту, — сказал Асат, усадив Дениса на скамейку в самом тёмном углу платформы. — Пива напился сдуру. Если прямо сейчас не отлить, однозначно лопну. А нам ещё идти прилично. — И, оставив свой «дипломат» и картонную коробку на попечение Дениса, Асат растворился в темноте ближайших кустов. Послышалось шуршание листвы под ногами, но, к полному удивлению Дениса, звук становился всё тише и тише и вскоре вообще затих. Денис понял: Асат уходит. И в наступившей тишине почудилось тиканье какого-то механизма. Приложив ухо к картонной коробке, Денис отчётливо понял, что не ослышался. Тикало именно в этой коробке, оставленной Асатом.
И вот под этот монотонный и одновременно тревожный звук часового механизма Денис вспомнил, как много-много лет назад, наверное, во втором, а может, в третьем классе, он так же сосредоточенно и с опаской слушал очень похожее тиканье.
А дело, выражаясь папиным шутливо-казённым языком, выглядело так: однажды днём, придя из школы и повинуясь характерному для мальчишек его возраста любопытству, Денис разобрал на несколько десятков мелких частей любимые семейные часы с кукушкой.
В полном объеме ответив на извечный вопрос: «А что же там внутри?» — он вскоре понял, что некоторые вопросы по данному поводу могут возникнуть ещё и у папы, который должен с минуты на минуту возвратиться с работы. И вопросы у папы, действительно, возникли, не на все из которых у струхнувшего Дениса нашлись удовлетворяющие отца ответы. Затянувшаяся, по мнению Дениса, дискуссия закончилась тем, что папа сделал официальное заявление, опять-таки, по мнению Дениса, носящее несколько односторонний и тенденциозный характер и заключающееся в том, что обещанная на завтра покупка велосипеда откладывается на неопределённый срок. Единственное, чего удалось добиться Денису в заключительной стадии встречи, это право на последнее слово, в котором он поставил вопрос о возможности дезавуирования итоговых соглашений — в случае, если ему удастся восстановить работоспособность указанных выше часов. После чего по всем правилам социалистического бюрократизма был составлен официальный, в двух экземплярах протокол, в который и были занесены все достигнутые договорённости и условия. Кстати, один экземпляр этого, уже пожелтевшего от времени, полушутливого и одновременно полусерьёзного документа, подписанный папой и сыном, до сих пор хранится дома, где-то в многочисленных ящиках старого красного дерева книжного шкафа. Денис не сомневался, что и другой, отцовский экземпляр этого протокола, не утерян, только вот находится он сейчас по другую сторону океана, на другом континенте, где-то в далёком и пока не знакомом ему американском штате Нью-Джерси.
И вот спустя два часа с гордостью и волнением от неожиданного даже для себя и тем более для папы результата и с опаской — а вдруг, проклятые, остановятся — Денис вслушивался в равномерное, почти совпадающее с радостным стуком сердца в его груди, тиканье.
Формальные условия протокола были благополучно выполнены. На следующий день папа с сыном уже оттирали от защитной смазки сверкающий хромом красный подростковый велосипед. И, несмотря на то что две последующие ночи кукушка с истеричным воплем выскакивала из раскрывающейся дверцы почему-то каждые пять минут, не дав бедному папе уснуть, а на третьи сутки часы вообще навеки встали, Денис, гоняя по двору на новом велике, особого смущения от этого не испытывал.
Не смущало ничто и его любимого пса — боксёра Даньку, с радостным лаем мчавшегося, сломя голову, с высунутым от счастья языком за велосипедом. В общем-то, он был не совсем Данька. В его родословной справке, иначе — собачьем паспорте, стояло испанское, гордое и почтительное — Дон. По собачьим нормам, все братья и сёстры, если по-научному — щенки одного помёта, должны называться на одну и ту же букву. Вот и у Даниных мамы и папы были две дочурки — Даша и Дульцинея и три сынка — Джек, Джон и Дон. Папа с ещё совсем тогда маленьким Денисом выбрали Дона. Сначала они долго не могли остановиться на ком-то одном — все были обаятельные, смешные и добрые. Все одинаково трогательно тыкались в руки мальчика чёрно-рыжими мордашками, как будто каждый из них просил выбрать именно его. Только один, самый толстый, спокойно спал в углу под табуреткой и, казалось, совершенно не интересовался ни папой, ни Денисом, ни своим будущим. Это и был Дон. Его, наверное, и не заметили бы вовсе, если бы тот во сне громко не пукнул, что, пожалуй, и предопределило окончательный выбор папы и сына. Так именно Дон стал новым постоянным жителем дома на Фонтанке и новым кровным врагом толстой дворничихи Дуни, вообще не терпевшей разных там кошек, собак, местных алкашей и прочей живности, которая только и делала, что гадила на убираемую ею территорию.
— Как звать-то урода? — поигрывая метлой и здоровенным совком, приветливо спросила Дуня у папы при первом выгуле Дона.
Дон в этот момент с аппетитом дожёвывал валявшийся на панели и посему загрязнявший Дунину территорию окурок и, видимо, поэтому был удостоен подобного внимания. Папа не хотел, чтобы прямо с пеленок его любимец наживал врагов, и посему был столь же вежлив:
— У него, Евдокия Егоровна, скорее, даже не имя, а титул — Дон. Он пёс хороший, воспитанный, и я уверен, что вы с ним подружитесь. Правда, Дон?
Дон вместо ответа задумчиво присел и, покуда папа безуспешно принимал решение, как спасти ситуацию, навалил на тротуаре, прямо у ног Дуни, объёмистую кучу, примерно вполовину её здоровенного совка. На этом так и не состоявшаяся дружба закончилась навсегда.
— Это не Дон, а штопаный г…! — буркнула Дуня и, очень довольная изяществом своей шутки, гордо удалилась прочь, помахивая метлой.
В отличие от толстой Дуни, папе её шутка не понравилась, и вскоре, дабы не подвергать искушению других мастеров тонкого юмора, на семейном совете, на который Денис, кстати, приглашён не был, Дон превратился в Дана. А потом как-то незаметно в Даню. Правда, пёс продолжал радостно отзываться и на Дона, и на Дана, и на Даню, а, находясь в опале за какую-нибудь провинность или шалость, прекрасно понимал, к кому именно относится обращение: «Эх ты, г… штопаный!»
Ел Даня, в основном, овсяную кашу, иногда гороховый суп и страшно обожал окурки, притом непременно отечественного производства и желательно без фильтра. Но больше всего на свете Даня любил верёвки. Бумажные скрученные были для него настоящим деликатесом. Они, по всей видимости, изготавливались из вполне натурального, безвредного продукта и не доставляли никаких неудобств Даниному желудку. Неудобства возникали позже, во время прогулок. Как Даня ни тужился, присев с мечтательным видом где-нибудь у гаража или помойки, непременно выяснялось, что проглотить бумажный моток значительно проще, приятнее, а главное, намного быстрее, чем от него избавиться. Процесс требовал ускорения, и папа в результате длительных и интенсивных экспериментов отработал оптимальную технологию. Носком левого ботинка он наступал на торчащий конец верёвки, а пинком правого в то место, откуда этот конец вылезал, придавал ускорение задумчивому Даньке. Результат был всегда отменным. Правда, однажды утром Денис встретил погружённую в мучительные раздумья Дуню, та внимательно изучала что-то лежащее на панели и громко, в голос, даже не заметив Дениса, рассуждала сама с собой:
— Каких только придурков ни повидала я на своём веку, но чтобы говно на верёвку нанизывали…
Даня был очень недурён собой. Классический рыжий боксёр, крепкий, с широкой белой грудью, умными озорными глазами и вечно виляющим хвостом-обрубком. Он бы мог, как его медалист папаша, получать золото да серебро на многочисленных в то время собачьих выставках. Но, когда Даньке стукнул год, у него в моменты его собачьего волнения иногда портился прикус: два передних клыка, к великому сожалению папы, никак не хотели прятаться в рот и, сверкая белизной, торчали наружу. Если же Даня не волновался и был совершенно спокоен и невозмутим, его нижняя челюсть абсолютно синхронно стыковалась с верхней, рот закрывался, и никакого прикуса не было.