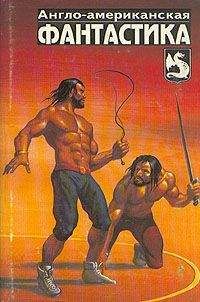Анри Монтерлан - Роман "Девушки"
224
ваш», ему и в голову не придет, что я испытываю к нему «сердечные чувства». Андре от подобного посвящения растаяла бы: «Он объяснился!»
В сущности, я испытываю к ней симпатию, уважение, даже немного восхищаюсь ею. Это все. И этого предостаточно.
Это все? Нет, еще я ее понимаю. Знаю, что Андре неприятна тем, кто ее знает. Ее упрекают в том, что она считает себя выше других. Но вдруг в этом есть частица правды? «Литературна»? Но, напичканная чтением, она, напротив, остается совершенно естественной, лишенной малейшей позы, тогда как существует уйма «начитанных» женщин, которые, более или менее бессознательно, взваливают на себя книжные чувства, полагая, что так и надо. Впрочем, почерк выдает Андре: сама простота и бьющий ключ. Потому что, в отличие от других, у нее мощный и простой темперамент, природа (а вы знаете, что слова «быть природной» означали в устах Гете высшуюу похвалу). И я даже до некоторой степени прощаю ей отсутствие достоинства. Ведь она в конце концов любит, эта девочка, а любовь и достоинство не составляют хорошую пару. Она хотела бы быть счастливой: что может быть естественней? Я тоже, когда хочу быть счастливым, хватаю через край. Короче, она мне надоела, но я ее понимаю и защищаю, когда ее атакуют, потому что не уверен, что в ее положении не был бы таким надоедливым, хотя, надеюсь, более осторожным.
Помимо этого, она некрасива, неграциозна, безвкусно одета и лишена женственности. Вы сами мне говорили: «У нее вид служанки». Странное изобретение — человеческое лицо: или оно очень красиво, или чертовски уродливо!
И потом, даже если бы она и не была откровенно отталкивающей — она мне не нравится, и я считаю, что одно это оправдывает мое поведение. Существуют женщины, в которых нет ничего, но это «ничего» возбуждает. «Ничего» Андре меня подавляет. Испить этот кубок до постели — нет, никогда!
Я могу сделать жест обладания. Преуспеть в том, что презираемо — благородная трудность, потому что надо победить одновременно других и себя самого; но это всегда было в моих силах. Преуспеть в том, что мне отвратительно — это я тоже могу. Я отделался бы смертельной нервной депрессией, которую испытываешь после плотского акта с той, кто не возбуждает желания. Но чего я не могу, так это изображать любовь. В моем обладании она почувствовала бы мое отвращение. Это убило бы ее. И для чего навязывать себе такое испытание? Чтобы заставить ее страдать!
Предположим, она от этого не пострадает; берут ли женщину из жалости? Это, как говорят мои собратья, «спорный вопрос». Разумеется, бывает так, что женщину берут, жалея ее, подобно тому как берут женщину, потому что она вас разгневала; но в основе должно бытьжелание, чего нет и никогда не будет у меня с Андре. Один мой
225
приятель, очень несчастный в браке, обмолвился как-то, рассказывая о своей жене: «Я плетусь с ней из жалости. Она молода. Она в этом нуждается». Я никогда не забываю этих слов, показавшихся мне страшными. Но можно из жалости удовлетворить женщину, даже делающую вас несчастным, если это ваша жена, вовлеченная в вашу жизнь, в ваши интересы — и это случается сплошь да рядом. Не удовлетворяют из жалости чужую, вас леденящую, к кому не испытываешь привязанности.
Да что там говорить! Это не шутка: сделать женщиной тридцатилетнюю мадмуазель. Это создает связь, риск, может быть, ответственность, может быть, — неисчислимые последствия: вспять не повернешь. Так вот! Я считаю чистым безумием затевать это ради безразличного тебе человека. Мамаша Колетт говорила ей: «Делай только такие глупости, которые доставляют тебе истинное удовольствие». И я не желаю, чтобы она имела какие-то права на меня.
Последний довод, если хотите, жалкий, так что ж! Я не субъект из бронзы. По характеру, из принципа, я с юношеских лет тщательно прятал все связи, даже самые лестные. По характеру — скрытный от природы (что неразрывно связано с фальшивыми признаниями). Из принципа — потому, что молодая особа уступает мне с тем большей легкостью, что знает: наружу это не выйдет и потому, что моя репутация распутника самим фактом, что ее нельзя прицепить к именам, сохраняет, вопреки всему, достаточную расплывчатость, мешающую ставить мне палки в колеса. И вот Андре, несдержанная в речах, опубликует, что она моя любовница! Мне нравится, что, за исключением нескольких редких людей, никто не может назвать моих подруг. И весь Париж перед таким уродцем, как Андре, может вскричать: «Теперь-то мы знаем, кто его пленяет!» И по этому образчику вообразить остальных!
Наконец, даже если бы этого и не произошло, меня удерживает вот что: в ее форме лица и лба — нечто от моего прадядюшки Косталя де Прадель; а вы понимаете, что мне не улыбается примешивать семью… Кто бы мог поверить? У меня тоже есть свои понятия о приличии… 1
Косталь
АНДРЕ АКБО
Сэн-Леонар
ПЬЕРУ КОСТАЛЮ
Париж
30 апреля 1927 г.
Вы не ответили на самое серьезное письмо, которое гордая и чистая девушка может написать мужчине. Другие письма, строго говоря, не требовали ответа; но это — требовало. Если вы не ответите на
1 Продолжение письма не имеет никакого отношения к нашему сюжету (прим. автора).
226
сегодняшнее письмо, я буду считать, что впервые вы поступили со мной плохо. Это будет первой реальной трещиной в моем уважении к вам.
Мне тридцать лет, я не знаю любви и, если вы не измените своего отношения, я не познаю ее никогда, потому что вы заняли во мне слишком много места. Кто способен любить вас больше меня? Никто, это невозможно. Ни одна любовница не любит вас так, как я (это, впрочем, довод в мою пользу). Вы тот, кого встречаешь только раз; вы отмечены завершенностью, законченностью, и у женщины, которой не посчастливилось вас встретить, была бы жизнь изуродованная, неудавшаяся, без цветов, без плодов. Вы мой господин. Бог знает, что у меня не рабская душа, и все же я вам подчиняюсь без малейшего усилия, без малейшего унижения; несмотря ни на что, я всегда пребываю на одной с вами ступени, одновременно ваша подданная и равная вам. Думаю, что для такой, как я, не существовало бы в мире ощущения восхитительнее этого, если бы вы были моим господином в полном смысле слова. То есть, я не смогла бы, даже если бы захотела, отдать другому мужчине какой-нибудь остаток себя, когда все лучшее взято вами: в моих глазах это было бы грязью. А кроме того, я неспособна уже заинтересоваться другим мужчиной: все, кто не вы, мне скучны. Они надо мною не властны. Это я властвовала бы над ними. А я не могу принадлежать мужчине, который не владеет всем моим существом; это невозможно, все во мне противится. Моя женская истина — любить, покоряясь и уважая; я должна чувствовать над собой превосходство. Видите ли, мне сейчас предлагают очень соблазнительные партии. Как те, что имеют религиозное призвание, я взвешиваю. На одной чаше — всевозможные блага этого мира, на другой — мое призвание: любить вас. И оно преобладает.
Вы значите много и очень мало для меня. Много, чтобы я могла полюбить кого-то другого. Очень мало, чтобы меня заполнить и удовлетворить. Вы мне даете много, что мешает прекратить всякое общение с вами. Вы мне даете столь мало, что эта малость ничтожна и болезненна, как ничто. Ваша дружба для меня пытка, и прекращение дружбы было бы тоже пыткой. Вы как нож в моем сердце. Оставить там — больно. Но вырвать! Из меня бы вышла жизнь. Я четвертована между дружбой к вам, духовной потребностью в вас, желанием быть вами духовно любимой и моим желанием любви, моим желанием жить, пусть лишь несколько месяцев; моя плоть тоже испытывает законную потребность любви. Если я не хочу потерять вас, мне надо пожертвовать плотью. Мне надо умереть девственной или забыть вас совсем, вплоть до вашего имени. Лишить себя замужества, наслаждения, здоровой жизни, истощиться в безысходном чувстве к человеку, который меня, конечно, любит, но не испытывает ни малейшего желания ни дать мне, ни получить от меня. Ведь вы не желаете от меня даже отказа. Вы ничего от меня не хотите.
Вы сказали мне, что, когда женщина смотрит на вас томным
227
взглядом, это «повергает на землю». Вы когда-нибудь видели у меня такой взгляд? Разве я когда-нибудь навязывалась, цеплялась к вам? Я поняла бы ваше сопротивление, если бы это было так: докучливым людям не стоит что-либо давать. Но это вовсе не так, я бы себе этого просто не позволила: мужское равнодушие таит нечто унизительное для женщины. Мое чувство — товарищеская влюбленность. Я не хочу вас, но вы единственный мужчина, чье желание я могу принять без возмущения. Повторяю: я могу любить только того, кто превосходит. Лучше пытка отказа, чем отдаться тому, кто ниже меня. Еще я предпочитаю брак, даже посредственный, посредственной интрижке. Брак одновременно с вашей дружбой? Прежде всего, ни один муж подобной дружбы не вынесет. А кроме того, сама мысль о мужском прикосновении бросает меня к вам, и я воображаю раздирающее сожаление: что могло быть — не произошло.