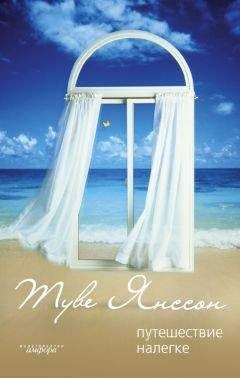Петер Эстерхази - Harmonia cælestis
You could be my son, сказала женщина (моя мать) моему отцу, который понял ее слова таким образом, что он мог бы стать ее солнышком, что ж, извольте пожаловать в дом восходящего солнца! и с много-, во всяком случае одно обещающей наверняка ухмылкой (с жутким кокетством, по мнению моей мамы) опустил жалюзи. Моя мать испугалась. Послушай, Ирен, уговаривала она себя, не попробовать ли тебе сформулировать это иначе? И действительно, смысловой акцент фразы с одного конца проблемы ей удалось переместить на другой: I could be your mother. Ухмылка слетела с его лица — с этого дня мой отец, хотя втайне питал временами нечто вроде безумной надежды, был уверен, что жизнь его станет теперь базарной комедией в постановке наделенных божественной властью женщин, — и он поднял жалюзи. (Дергал их, как трусливый засранец, — мнение моей матери.) Так познакомились мой отец, моя мать.
85Мой отец изучал английский. Кропотливо, усердно. И когда он однажды, вместо того чтобы, например, сказать how are you или, лучше того, the pen is on the table, стал уверенно, даже самонадеянно формулировать длинную фразу об особенностях структуры, характера европейской культуры, с акцентом на ностальгической природе переживаемого момента, на том утверждении или, скорее, посылке, что нам, дескать, дорого уходящее, больше того, минувшее, иными словами, то, чего уже просто нет, однако при всем при том — и это являлось главным в его высказывании, заложенной в нем, так сказать, оплеухой, а с другой стороны, его болью, — словом, при всем при том это вовсе не вопрос выбора, не результат сознательного решения, а напротив, естественное, вытекающее из типа, характера данной культуры следствие и проч., короче, когда он все это выдал на своем свежеобретенном английском — как он полагал — языке, сознавая, конечно, возможные ошибки в спряжении, порядке слов и отборе лексики, он был тем не менее изумлен, что его собеседник, лысый, закованный в кандалы обворожительный турок, красивый как солнце, умный и сильный, словом, настоящий мужчина, безотносительно к тому, что под этим подразумевать, ответил с широкой и дружелюбной, насколько это было возможно в несчастной его ситуации, улыбкой: о’кей, о’кей, после обеда, если хотите, можно сыграть в пинг-понг. My father has the ball. Если бы мой отец хоть что-нибудь принимал всерьез, он бы заплакал.
86Мой отец, по мнению некоторых, весь свой ум, интеллект держит там, при этом они указывали на промежность, туда. И независимо от того, сколь утонченным был человек, этот жест, сопровождаемый возбужденным хихиканьем, всегда был до рвоты противен и омерзителен. Обязательное хихиканье выражало что-то вроде признания, зависти, даже одобрения, хотя само замечание непременно имело целью решительно осудить, унизить моего отца, дать понять, что он невменяем, впал в moral insanity[39], что он носится со своим членом, что член у него — всему голова. О, если бы это было так, вздыхает отец, как плохой актер в единственной за всю жизнь великой роли, и поглаживает себя там. Божественный жест!
87Жизнь моего отца была распланирована наперед. План был не ахти какой гениальный, но перспективы открывал привлекательные, наследственные владения-то офигенные: какая может случиться беда? Мой отец имел собственный план, который в конце концов и осуществился, причем воплощался он с такой сногсшибательной силой, что ему не могли помешать даже так называемые исторические перемены, а было тут всякое, полный набор: и Трианон, и Салаши, и русская оккупация, и 1956 год, короче, сплошная динамика. Сущность плана моего отца состояла в том, что он терпеть не мог жирной баранины. А потому он завез с Ближнего Востока породу овец, откладывающих жир в хвосте; курдюк у них вырастал до размеров футбольного мяча. Кстати, в жареном виде это истинный деликатес. Так вот, чтобы несчатным тварям Божиим не приходилось таскать за собой по земле жировую подушку, мой отец сконструировал для них маленькую двуколку. И всю жизнь мастерил потом эти тележки. Сидит где-нибудь — во дворе, на пастбище за околицей, у дорожной канавы под деревом — и клепает свои колымаги, таким мы его и запомнили. Они были даже названы в его честь. Разновидность лесного ореха, не знаем уж почему, и эти тележки. Овечки блуждали по всем владениям, и достаточно было глянуть, какая часть Задунайского края отмечена-расцарапана параллельными линиями от овечьих двуколок, чтобы знать, что это все — наше. Разумеется, конфискация есть конфискация. Или, как выражается мой отец (на родине Яноша Бойяи, автора неевклидовой геометрии, слова эти как нигде понятны и правомерны), параллелины есть параллелины. Мой отец всю жизнь оставался владетелем, не в смысле — латифундистом, а потому что считал всю страну своей, во всяком случае все ее параллелины и царапины. Ох уж эти твои параллельные, махнула рукой моя мать, как только они познакомились, нигде они не сойдутся. В бесконечности, хитро подмигнула им одна из овечек.
88Мой отец постоянно рисовал на песке овец, даже когда пас овец. Художеству его никто не учил, это было от Бога. Когда Джованни Чимабуэ увидел его рисунки, они произвели на него столь неизгладимое впечатление, что он спросил моего отца, не хочет ли он работать у него в мастерской. На что мой отец сказал: с удовольствием, если не возражает его отец. Тот возражать не стал. В отличие от отца Микеланджело, который за рисование бил Микеланджело смертным боем, считая изобразительное и, шире, искусство вообще «занятием низким и недостойным почтенной семьи». Что-то в этом, пожалуй, есть. Кроме того, с Микеланджело моего отца связывало то, что он, как и Микеланджело, женою своею считал искусство (а картины — как бы своими отпрысками). По этой причине мой отец допоздна занимался мазней и на робкий призыв моей матери идти наконец в постель восклицал: О che dolce cosa и questa prospettiva![40] Впоследствии эти слова понимали так, что prospettiva (la! она!) — и есть та сладостная любовница, которая удерживала художника от супружеского ложа. В этом тоже, наверное, что-то есть. Недаром ведь Поллайоло на гробнице папы Сикста IV изобразил перспективу в виде женской фигуры!
89Мой отец целовал мужчину всерьез (до сих пор) лишь однажды. Назвать этот поцелуй любовным было бы чересчур, но все же он был куда значительнее, чем мужественное лобызание. Дело же обстояло так: у моего отца был друг-писатель, в смысле и друг, и одновременно писатель. Хотя взгляды у них были совершенно разные, мой отец его книги любил. Писатель был скептиком, созерцателем, смиренно, но увлеченно ревизовал окружающую действительность, а о том, чтобы, так сказать, изменить ее, даже не помышлял, полагая подобные устремления в поэтическом смысле бесплодными, смехотворными, ну а в личном плане — гордыней. Мой отец был полной противоположностью! Он не мог примириться с миром, вечно бичевал эгоизм политиков и трусливость людей. Уклонисты от жизни! так он выражался, нельзя передоверять свою жизнь другим, то есть можно-то можно, да только зачем. Мой отец любил жизнь как антагонизм смерти и все время что-то предпринимал в духе устаревшего, с классической, общепринятой точки зрения, гуманизма: учил цыганских детей математике, вбивал в головы матерям-одиночкам периодическую систему Менделеева и давал уроки танцев умственно отсталым мальчикам (начинающим и продвинутым); он был настоящим подвижником. Как ищущий благодати профорг, подтрунивал над отцом его друг. По мнению моего отца, несмотря ни на что, несмотря на неслыханные скандалы XX века, миром правят добро и любовь, против которых бессильно все, даже человеческая природа, хотя, несомненно, это узкое место, но он свои выводы делает, исходя из людей, коих лично знает, а не из тех, о ком только читал; само собой разумеется, он знает и всяких мерзавцев, но это ничуть не меняет его убеждения, которое опирается на фундаментальное основание: чувства. Система, а речь идет именно о системе, не может держаться на чувствах, уныло усмехнулся друг моего отца. Ему было скучно быть правым; ведь правота — это одно, а правда — совсем другое. Жизнь без любви не стоит ломаного гроша, взвопил мой отец. (Они пили весь день. Особых причин к тому не имелось — просто день был такой.) Любовь опасна, это игра с огнем, засмеялся писатель. Мой отец замахал руками. Компьютеры! начало новой культуры! смерть слова! конец истории! Вот ваши идеи! Как будто все можно заменить. А это вы чем замените?! Мой отец, потянувшись через стол, взял руку писателя и нежно погладил ее, вот это! Писатель, кивая, опять засмеялся. Чувства всегда актуальны, всегда существуют, не успокаивался мой отец. Но не являются государствообразующей силой, отмахнулся писатель. Как это не являются! и вообще, кому оно интересно, твое государство?! Нам с тобой — если мы не хотим, чтобы новые орды варваров заполонили твой сад. Мой отец: да нельзя же все просчитать до последней мелочи — надо верить, и все! И все?! вскинул брови писатель и приготовился атаковать, почувствовав себя на своем поле. Понимал, понимал мой отец, в какие дебри хочет его завести писатель, нет, нет, к мифу мы должны относиться серьезно! Серьезно и иронически, сказал его друг. Теперь очередь впасть в уныние была за моим отцом. Писатель пожал плечами, он готов был просить прощения, а есть ли что-нибудь в этом мире, на что можно смотреть без иронии? Бог. Какой Бог? Бог. Да брось ты… Он просто нелеп, само его положение иронично. Господи, которого нет, помоги!.. Что это, если не ирония… ирония бытия?! Мой отец не любил таких разговоров. И тогда… И тогда мой отец перегнулся через стол и осенил губы своего друга долгим поцелуем, влажным, горячим, пульсирующим, каким никогда еще не целовал мужчину. И было то — хорошо. Его друг, покрасневший и совершенно серьезный, сказал: вот в этом, пожалуй, иронии не было. Ну ладно, пора идти.