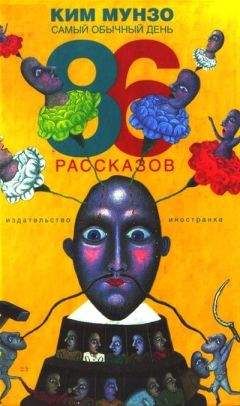Геннадий Головин - День рождения покойника
Слова «браво» и «изумительно» они кричали шепотом, а чувства, одолевавшие их, больше выражали улыбками, печально-восхищенными, обращенными друг к дружке, и безмолвными воздеваниями рук где-то на уровне грудей. Судя по всему, это была какая-то тихая, безобидная для общества секта — вроде любителей канареечного пения.
Музыканты тоже вели себя прилично. Не шумели и не кричали на весь зал — чутко учитывали, что в зале не только их слушают, но и отдыхают после тяжкой пивной повинности.
Вообще — хорошо было.
Больше всего в новой своей жизни беспокоило Василия не то, что его не признают за живого человека или, там, наоборот, признают, но не за Пепеляева. Больше всего его огорчало, что чересчур уж какая-то мятежная жизнь для него началась. Некогда, невозможно и негде стало что-нибудь хорошее подумать, как прежде, важное. Разбрестись привольно мыслию по тупичкам и коридорчикам, по проулочкам и закоулочкам мирового здания, восхититься, даже напужаться огромностью всего сущего, смешной непостижимостью его! Пылинкой, соображающей букашкой почувствовать себя и, жалея, поуважать…
Хорошая мысль, известно, в пустую голову приходит. А уж какая хорошая могла посетить Василия, если башка его изо дня в день все бестолковее зарастала изнутри, как бурьяном, досадными какими-то мыслишками о людской глупости, копеечности, трусоватости, о несправедливости, устроенной людьми среди людей!
Очень ему обидно, и чем дальше, тем обиднее, было за человеков! Он, конечно, не позавчера родился — знал прекрасно, что трудновато им в этой жизни в ангелах удерживаться, быстро стервенеют, с каким-то аж сладостным треском вырывают присущие им крылышки, а, достигнув возраста, как по гнусавой какой-то команде, к звероподобию устремляются — то есть, алгебраически выражаясь, всесторонне и всемерно упрощают себя, иной раз вплоть до нуля.
Знал все это Василий Степанович и раньше, но как-то издали, что ли. В прошедшей жизни ему не до этого было, и не касалось это его никак. Он рос, внимательный сам к себе, мужал с бабами, отдыхал в раздумьях о мировой катаклизьме и на работе, страдал — исключительно лишь с похмелья, премного был всем и всеми доволен, поскольку всё и все никак его не касались и духовному его произрастанию ничем не вредили. Но тут случился, как назло, этот никому не нужный пожар, и все переменилось.
Вася, будто и взаправду в огне побывавший, чувствителен стал к жизни — как облупленный. Как будто взамен сгоревшей, заскорузлой, наросла на нем кожица нежненькая, до того тонюсенькая и раздражительная, что каждое идиотское слово, каждый перепуганный взгляд в его сторону, каждый даже глупый помысел о нем — отпечатывались теперь в душе Пепеляева, как розга на трепетной ягодице.
И еще потому чересчур уж прокурорски стал относиться Пепеляев к людским отдельным недостаткам, что носители этих темных родимых пятен фактически Васю-то самого за Васю высокомерно не принимали. Отказывали ему в этом высоком заслуженном праве! И недвусмысленно получалось: живой Вася, вот этот, сидящий в ложе бенуара, со всеми его потрохами, достоинствами и превосходными недостатками, был людям, оказывается, как до задницы дверца! Плевать им было и на него, и на его существование! И сегодня плевать, и вчера! Им зачем-то другой, видите ли, оказался нужен — чтоб похоронен был непременно под казенный оркестр, на народные деньги, чтоб бодро штурвалил на фоне пальм, чтобы обожал в минуту отдыха валенки надеть чертовецкой пимокатной фабрики, поставив предварительно на патефон пластинку «Сегодня мы не на параде»… (С этаким-то Васей, признаться, Пепеляев поостерегся бы не только в разведку идти, но и в пункт приема стеклопосуды.)
Однако, несмотря на все пепеляевское жалостное презрение, тот, похороненный, вовсю торжествовал сегодня, жил в почете и уважении, а Вася — самый что ни на есть неподдельный Вася, с уже прилепившейся к нему кличкой Покойник, вынужден был мыкаться среди людей, как пьяненькая сиротинушка, неизвестного и даже подозрительного происхождения, — черт-те кто, а не человек, — не имеющий права не только жить Василием Степановичем Пепеляевым, но и, если бы приспела нужда, умереть не мог бы под этими дорогими сердцу ФИО, поскольку и на кладбище, и в жизни место его капитально занял какой-то неведомый нахал-самозванец, воплощение, прости господи!
В ложе бенуара повеяло тройным одеколоном. Не оборачиваясь, Пепеляев прошипел:
— Уйди, Серомышкин, убью! — и, кто знает, мог бы убить, не исчезни тот сразу же, потому что очень уж великолепно-обидная мысль зашипела, забрызгала, как бенгальский огонь искрами, в его голове.
Он вдруг подумал: «А люди-то, может, и правы, ежели им высочайшим образом наплевать, жив ли я, помер ли?»
Кто он им? Никто. Пустое пространство, занятое телом. До четвертого десятка, считай, дожил, а если посмотреть, как дожил, то и сказать нечего. Придурялся всю жизнь да бормотуху глушил. Ни зла никому не натворил, ни добра особого.
Случись взаправду умереть, чем люди вспомянули бы?.. Тот — хоть сгорел, хоть ужасными обстоятельствами своей погибели, а поразил до самого нутра людское воображение. Большую радость людям доставил тем, что он вот сгоревший дотла, а они — ни в коем разе, даже не закоптившись…
Они, люди то есть, каждый по отдельности ничем Пепеляева не лучше, если хуже не сказать, но когда они сплюсованы в кучу, тут же какой-то другой дерьмантин начинается, удивился Василий. Тут они — мир, общественность, по-научному выражаясь, перед которыми почему-то, будь любезен, держи ответы на вопросы. А ответов-то и нет…
Очень пригож взгляду Пепеляева был вот этот Пепеляев, культурно возлежащий в филармонии в очень укладистых креслах бенуарной ложи и вновь, как в былые времена, размышляющий о высоком!
В этом свободном парении духа он был настолько пронзителен мыслию, что, как мы видели, даже покусился на самокритику себя за плоховатое якобы исполнение им своего человечьего предначертания.
Больше того, он в одном из моментов до того допарился, что вдруг завосклицал, как девушка, с непомерно-восторженной принципиальностью: «И правильно! И правильно, что паспорт выдавать решили погодить! Это еще заслужить надо. Шутка ли? Паспорт на имя Василия Степановича Пепеляева! Исключительно мудро поступили товарищи паспортисты! Ура им!!» — напрочь забыв, увлекающаяся натура, как еще позавчера чуть не до самого ли дна вычерпал всю свою сокровищницу матерных слов и неизящных выражений, расписывая паспортистов, отказавших ему в виде на существование.
Первой на допрос вызвали тогда маманю его.
Она, бедная, от непривычки к казенным учреждениям и так уж вся трепетала, как свечечка на сквозняке, а когда увидела мундирного начальника (который хоть и был похож на своего симпатичного двоюродника Спиридона Савельича, но жирен безобразно), то и вовсе сомлела. Ножки ее в пустых складках старушечьих чулок заметно заподгибались, она что-то, предсмертное видно, пришептывать стала. И, если бы табуретку не подставили, тут же и померла бы, как пить дать! Тут не то что любой протокол — царский манифест об отмене крепостного права подпишешь…
На все вопросы, сын ли ейный сидит напротив, она взглядывала на начальство жалобно, снизу вверх, с боязнью не иначе как побоев, и ответствовала внятно, но одно и то же:
— Так уж как вам благовиднее, мил человек. Он-то, что ж… пришел, живет, пусть. Вы уж не трогайте его, а? — и все разглаживала негнущимися своими пальцами какую-то складочку на коленях.
Потом соседей вызывали. Здесь-то уж вредительством разило, как в колбасном цехе: самых идиотных подобрали.
Входили одинаковые, как лапти. Шапки в руках теребили. Прямо как в кино про времена царского прижима.
Взгляд у всех был одинаковый — косвенный, будто курей воровали. И бормотали они одно и то же, невнятно и уклончиво: «Да, вроде Васька. А там кто его знает?… Да нет, Васька это, как вылитый. То есть сказать, очень вообще-то похожий. Тот, правда, будто бы повыше был…»
Пока их в протокол записывали, они переминались рядом с пепеляевским стулом, впрямую глядеть на него словно бы даже опасаясь.
Василий назло не давал им покоя.
— Чего ж ты, Игнат? Иль взаправду не признаешь?
Тот мучительно потел, зря в сторону. Потом все ж таки не выдержал:
— А-а, иди ты! Может, ты — шпион какой заброшенный…
Другой на ехидный вопрос Пепеляева: «Да ты что, сдурел? Не видишь, что это я?» — ответил и вовсе неведомо:
— Да вижу! Только толку-то.
Особенно вывел Пепеляева из себя один, самый среди них дурной дурак, даром что школьный учитель в младших классах.
— …Но, вообще-то говоря, и двойники бывают! — начал он вещать и даже заходил, как перед первоклашками. — Такие случаи в истории имеются. Взять, к примеру, Гитлера…
Тут Пепеляев окончательно не выдержал.