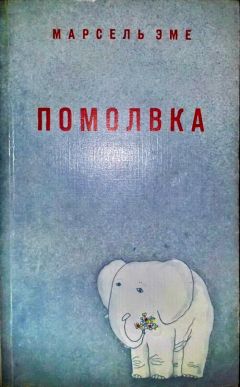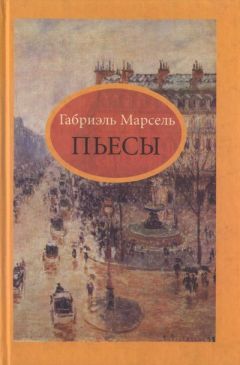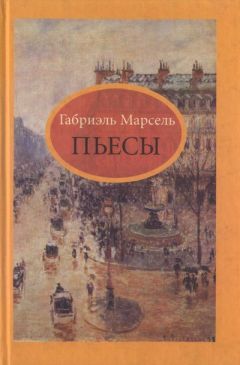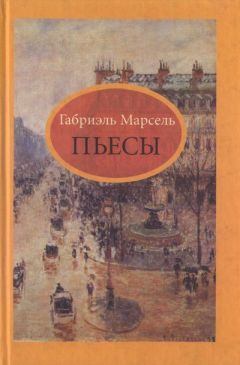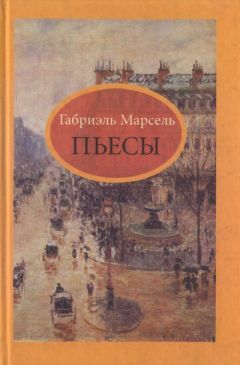Нодар Джин - Учитель (Евангелие от Иосифа)
Или когда поселил у себя с самым интимным другом ещё одну блядь. И тоже называл её интимным другом. Предаваясь с ней тем же невагинальным сношениям. И прислушиваясь при этом не к жене, а к граммофону. К «Аппассионате» Бетховена.
Я, может быть, не очень чуток и к классической музыке, но ни с первой женой, ни со второй не позволял себе ничего вневагинального. Даже с Валечкой — только сегодня.
Но я об этом уже написал. Сейчас же рассказываю о том, что уходящая дорога напоминает мне верещанье цикад, а оно — звон телефонов в главные дни.
А тот день был в моей жизни из главных. Хотя мне стукнуло уже 37, именно тогда я и получил впервые работу. Если не считать четырёх месяцев в тифлисской обсерватории. Чего я не считаю. Ибо не за звёздами родился наблюдать.
Потом были другие главные дни. И другие звонки. Напоминавшие мне верещанье цикад. И, стало быть, похороны отца. И дорогу, ведущую в никуда. А на ней — исчезающего в дымке Христа.
В чистом белом хитоне.
29. Трезвость — бесполезное достоинство…
Но в этот юбилейный вечер, во сне, он впервые объявился мне в майорских погонах. И не спешил удаляться. Сам же и затеял разговор о главном.
О конце мира.
Видимо, тоже решил уважить мой юбилей. Или встревожился, услышав речь писателя Леонова. Что настал час отсчитывать время с моего рождения.
Быть может, решился наконец на большой разговор. А почему, собственно, нет? С кем ещё ему говорить? И потом — сам-то он царём так и не стал. В отличие. И дослужился лишь до майора. Тоже — в отличие.
А я — и он это уже видит — не просто ведь царь. Хотя и сам он, правда, не простой учитель. И не ровня ему другие цари или маршалы.
Потому и вошёл ко мне без стука. И закурил мой «Казбек». И развалился в моём кресле. Давя при этом спиной мой новый китель с маршальскими звёздами.
И стал изрекать в глаголах сущие истины.
Когда он договорил про чаши гнева и я бросился к нему с распростёртыми руками, меня поразил не только его вид. Не только погоны на хитоне и фуражка со звездой вместо тернового венца.
Более неуместным показался мне звон цикад. Не внезапным и резким, а именно неуместным. Ибо Учитель никуда не удалялся. Сидел за столом — и петлистой тропы рядом не было.
— Куда же ты уйдёшь, — изумился я, — без петлистой тропы?
— Как можно?! — отвечает. — Я не ухожу, товарищ Сталин!
— А почему трещат цикады?
— Это не цикады, — отвечает майор и поправляет на лбу фуражку, чтобы не кололась терновыми шипами. — Это телефон.
И тут во сне я сознаю, что мне это только снится. Никакого Учителя в облике майора! И никакого майора в облике Учителя! Только сон! А на самом деле — ни венца, ни фуражки! Ни цикад, ни телефона!
Но хотя я и повернулся на другой бок, прикрыв себе ухо плечом, цикады не унимались. Не перестали тревожиться. Звенели точно как на кладбище. Когда от меня уводили отца. Точно как в траве на обочине белой дороги. Когда уходил от меня Христос.
Я испугался за себя, собрался с силами и попятился назад. Вышел из сна.
И увидел мой диван. А на нём себя. А на себе кальсоны. И почувствовал, как затекла рука. И услышал, как трещит телефон. И вспомнил, что мне 70 лет. И что в 70 лет с дивана поднимаются кряхтя. И несмотря на возраст, хотят пожаловаться маме. На то, что не дают поспать.
— Товарищ Сталин, это, извините, Орлов! — сказал Орлов.
— Почему Орлов? — буркнул я. — Почему не Лозгачёв?
— А он — вы же видели… И добавил ещё… Праздник…
— Ты, получается, опять самый трезвый?
— Единственный, Иосиф Виссарионович!
— Трезвость — бесполезное достоинство, Орлов! Особенно — когда единственное.
— Я знал, что вы спите, товарищ Сталин, и очень извиняюсь… Но — события!
— Говори!
— Во-первых, гости уже прибыли. Из Китая… Ну, не оттуда, а с вашей другой дачи. Товарищ Мао прибыл, с одним словом! То есть — одним словом. Но — с одним переводчиком…
— Скажи ему, что прибыл раньше времени.
— Он знает, но говорит, что — умышленно. Надеется переговорить с вами до прибытия других гостей. Говорит — очень важно!
— Ты идиот, Орлов. Ты работаешь у меня не для того, чтобы верить Мао. А чтобы Мао не будил меня.
— А я, товарищ Сталин, не потому беспокою, а потому, что… Вы сами велели звонить в любой час, когда — разговор.
Я остыл:
— А кто теперь? И с кем?
— Товарищ Берия с товарищем Молотовым.
— Теперь уже с ним?
— Так точно, Иосиф Виссарионович.
— Тогда ты прав, Орлов, — кивнул я. — Что разбудил.
— Спасибо, Иосиф Виссарионович! Перевести вам?… К вам?
— Переведи! А Мао скажи — сплю. То есть — скажи переводчику. Пусть он тоже переведёт.
— Ясно, товарищ Сталин. Но почему «тоже»? Кто ещё?
— Ты. Ты ведь тоже должен перевести.
— Но я же — не словає. Я линию перевожу.
— Это я так. Шучу.
— А-а-а! — расхохотался Орлов.
— И ещё!
— Да, Иосиф Виссарионович?
— Власик звонил?
— Звонил… Но…
— Ну, чего мнёшься?
— Он тоже немножко того… Тоже приложенный…
— Почему «тоже»? Кто ещё?
— Как Лозгачёв… Но ведь праздник, товарищ Сталин…
— Говори!
— Доложи, говорит, товарищу Сталину, что нашёл его и везу… К столу… Как вам сказать…
— Скажи, как он сказал!
— Везу, говорит, майора Христа… Иисуса, товарищ Сталин…
— Отлично, Орлов!
— Да?
— Да. Переводи!
30. Долгожительство — дело вкуса…
Незадолго до войны Лаврентий катал меня на глиссере по абхазскому озеру Рица. И рассказывал о том, что если во всей Грузии на квадратный километр приходится втрое больше князей, чем во всём остальном мире, то в Абхазии на тот же километр приходится впятеро больше долгожителей.
Берия уговоривал меня подражать последним. И тоже очень долго жить.
— А разве очень долго жить возможно? — пошутил я.
— Необходимо! — настоял Берия. — Хотя долгожительство — дело вкуса.
— И абхазцы, говоришь, предпочитают долго жить?
— Сто и выше!
— Даже не-мусульмане? — не пошутил я.
— Вы шутите? — не понял Лаврентий.
— Абхазцы ведь мусульмане. И в году у них 10 месяцев. Вот и получается «сто и выше».
— Но долго живут и христианские абхазцы! — поручился Лаврентий. — У которых в году 12!
— А атеисты? Большевики?
— Пока неизвестно, — рассмеялся он.
— Почему неизвестно? А Лакоба кто был — известно? — обернулся я к другому грузинскому большевику. Который сдирал для Лаврентия шкурку с абхазского инжира. — Кто был Нестор Лакоба? Бразильский большевик? Или китайский?
От волнения тот раздавил пальцами сочный плод:
— Нет, товарищ Сталин. Лакоба был не бразильский и не китайский большевик, а абхазский! Даже лидер!
— Лакоба был не только абхазец и «лидер»! — по правил его Лаврентий. — Он был ещё враг!
— А разве лидер может быть врагом, Лаврентий?
— Может! — не испугался он. — По отношению к другому лидеру. Главному.
— И что же в этом случае получается? — улыбнулся я.
— В этом случае, Иосиф Виссарионович, — улыбнулся и он, — неглавный лидер живёт недолго. Меньше, чем сто. Даже если он абхазец. Как Лакоба.
Я убрал с лица улыбку и заключил:
— Если лидер — враг, Лаврентий, то он не «лидер и враг», а просто враг. И не другого лидера, а народа. А если он враг народа, народ и лишает его лидерства.
— И не только! — кивнул Лаврентий и защитился ладонью от водяных брызг. — Народ лишает его и жизни!
И сразу после этих слов началась пальба.
Стреляли громко, но неметко. Тем более, если целились в меня.
Попал в меня только Лаврентий. Лысиной — в живот. Сбил с ног на дно глиссера и — вместе с абхазскими большевиками — навалился мне на грудь. И лежал там долго — пока враги не перестали неметко стрелять в нашу сторону.
А может быть, в другую. Дело не в этом. И не в том даже, что, возможно, стреляли не враги. И стреляли не в меня, а в горный воздух. И что эту стрекотню подстроил сам Лаврентий. Чтобы с большевиками навалиться мне на грудь и прикрыть собою от пуль. Куда бы они ни летели.
Не в том также дело, что именно тогда я и решил поднять его из Грузии в Москву. Дело в том, что хороший художник, то есть мастер, опережает жизнь. Пусть даже Лаврентий и разыграл на Рице спектакль — он выразил вечную правду: враги, увы, таятся всюду. И выразил её в драматической форме.
Про Рицу Лаврентий вспоминал часто. В последний раз — в начале этого года.
Иосиф Виссарионович, говорит он, помните ли высокогорную Рицу? И помните ли, что, несмотря на её высокогорность, в вас там стреляли? Слава богу, не метко! Но враг не дремлет, Иосиф Виссарионович! И с каждой неудачей совершенствуется!
Я и сам чуял неладное. Слишком уж тихо было вокруг.
А тихо потому, добавил Лаврентий, что враг поднялся очень высоко. Так же высоко, как высоко над морем — и тоже тихо — залегло озеро Рица. Выше — лишь вершина. Куда, мол, враг и метит.