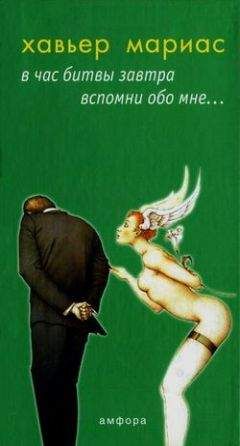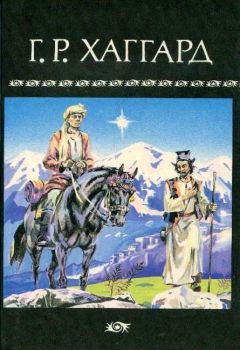Хавьер Мариас - Белое сердце
Но все это только предположения и гипотезы, хотя случается, что жизнь других людей (жизнь и смерть, а не какие-то отдельные события) зависят от нашей решимости или от наших сомнений, от нашей трусости или смелости, от наших слов, от наших рук, а подчас даже и от того, что у нас есть деньги, а у них нет.
Недалеко от дома Ранса, то есть от того дома, где прошли мои детство и юность, есть писчебумажный магазин. В этом магазине очень рано, лет с тринадцати-четырнадцати (мне тогда было чуть больше), начала работать девочка, дочь хозяина. Это было старомодное заведение, одно из тех мест, которых не коснулся прогресс, неузнаваемо меняющий все вокруг. В течение многих лет магазин почти не обновлялся, только в последние годы, после смерти отца той девочки, его чуть подновили, слегка модернизировали и теперь, наверное, он приносит больший доход. А в те времена, когда мне было пятнадцать или четырнадцать лет, они зарабатывали очень мало, поэтому девочке и пришлось пойти работать, для начала не целый день, а только после обеда. Это была прелестная девочка, она мне очень нравилась, и я почти каждый день заходил в магазин, чтобы посмотреть на нее. Вместо того, чтобы купить сразу все, что мне было нужно, я покупал в один день — карандаш, в другой — тетрадку, потом приходил за ластиком, а на следующий день — за чернильницей. Я покупал то что мне не было нужно, я слишком много денег тратил в этом магазине. Я не спешил, стоял, насвистывая, в ожидании своей очереди, как делают все мальчишки в этом возрасте, и старался подгадать так, чтобы меня обслуживала именно она (дожидался, когда она освободится, и тут же обращался к ней), а не кто-то из ее родителей. Я испытывал неземное блаженство, если она вдруг улыбалась мне или смотрела на меня более приветливо, чем обычно (даже если мне это только казалось), но самым большим счастьем для меня было мечтать об абстрактном будущем. Впереди было много времени, она каждый день была на своем месте, ее всегда можно было увидеть, и не было нужды торопиться и превращать абстрактное будущее в конкретное настоящее.
Я взрослел, взрослела и девочка, оставаясь все такой же прелестной в течение многих лет. Теперь она работала и по утрам, лет с шестнадцати она уже весь день проводила в магазине. Она стояла за прилавком и тогда, когда я уже учился в университете (сама она не училась). Я так и не заговорил с ней, ни когда мы вместе учились в школе, ни потом: сначала мне мешала робость, а потом время было уже упущено — абстрактное будущее иногда шутит с человеком такие шутки — я по-прежнему мог видеть ее, но вокруг меня кипела уже совсем другая жизнь, и я все реже заходил в знакомый писчебумажный магазин. Я всегда только просил у нее бума гу или карандаши, папку или ластик и говорил ей «спасибо». Поэтому я не знаю, какой у нее характер и какие вкусы, интересно ли с ней разговаривать, от чего у нее бывает хорошее настроение и от чего — плохое, что она думает о разных предметах, как смеется, как целует. Знаю только, что, когда мне было пятнадцать лет, я был в нее влюблен, как влюбляются в этом возрасте, полагая, что это на всю жизнь. Но смею утверждать, что ее взгляд и ее улыбка (взгляд и улыбка тех лет) стоили того, чтобы полюбить их на всю жизнь, и это я говорю сейчас, когда мне давно уже не пятнадцать. Ее звали (и зовут) Ньевес. Уже лет пятнадцать или больше я не живу в доме Ранса, но иногда я навещаю отца или заезжаю за ним, чтобы поужинать вместе в ресторанчике «ЛаТраинера» или еще где-нибудь, и каждый раз, прежде чем зайти к отцу, я по старой привычке захожу в писчебумажный магазин, чтобы что-то купить, и всякий раз встречаю там ту девочку, которая давно уже выросла. Я видел ее, когда ей было двадцать три, и двадцать шесть, и двадцать девять, и теперь, когда ей тридцать три или тридцать четыре. Я видел ее незадолго до нашей с Луисой свадьбы. Она еще молодая женщина, это точно, я всегда приблизительно знал, сколько ей лет, она чуть моложе меня. Она молодая женщина, но молодой не выглядит. Она уже не так прелестна, и я не знаю, почему — в ее возрасте это еще вполне возможно. Она слишком много лет стоит с утра до вечера за прилавком писчебумажного магазина (магазин закрыт по ночам, в воскресенье и в субботу после обеда, но этого мало), продавая свои товары детям, которые давно уже воспринимают ее не как равную, не как девочку, в которую они влюблены, а как незнакомую сеньору. Никто из этих мальчишек не влюблен в нее, да может быть, никто никогда и не был в нее влюблен, даже я, теперь уже не мальчик, — разве что муж, какой-нибудь местный парень, который так же, как и она, слишком много лет провел в подобном заведении, продавая лекарства или меняя шины. Я про него ничего не знаю. Я даже не знаю, есть ли у нее вообще муж. Знаю только, что эта молодая женщина, которая не выглядит молодо, слишком много лет носит одно и то же: свитера и блузки с круглыми воротничками, плиссированные юбки и белесые чулки, слишком много лет взбирается по стремянке, чтобы достать с верхней полки ленту для пишущей машинки, ее неровные ногти испачканы чернилами, стройная фигурка оплыла, ее груди (я наблюдал, как они росли) обвисли, взгляд стал неприветливым, а под глазами появились мешки, веки набухли от недосыпания и нависают над когда-то прекрасными глазами. Может быть, они набухли оттого, что с детства смотрят на одно и то же? Когда я видел ее в последний раз (незадолго до свадьбы заезжал как-то за отцом, чтобы весело пообедать с ним), мне в голову пришла мысль, за которую мне немного стыдно, но от которой я, как ни стараюсь, не могу избавиться, она возвращается время от времени, как что-то, о чем уже тысячу раз забывали и столько же вспоминали, что нам лень навсегда выбросить из головы и мы предпочитаем оставить все как есть — то вспоминать, то забывать. Я подумал, что жизнь этой девочки, Ньевес, могла бы стать совсем другой, гораздо лучше, если бы моя любовь не осталась тайной, если бы, повзрослев, я все-таки заговорил с ней, и мы начали бы встречаться, и она захотела бы поцеловать меня — теперь я уже никогда не узнаю, захотела ли бы она сделать это. Я ничего не знаю о ней. У нее, конечно, мало запросов, ей не хватает амбиций и любознательности, но в двух, по крайней мере, вещах я уверен: она не одевалась бы так, как одевается сейчас, и не работала бы в этом магазине — этого бы я не допустил. Возможно, она оставалась бы по-прежнему молодой и прелестной, а может быть, и не такой уж молодой и прелестной, — однако сама мысль о том, что все могло бы быть именно так, привела меня в негодование, и не потому, что я говорил с ней только о карандашах, — меня снова возмутило, что то, как человек выглядит и сколько лет ему можно дать на вид, может зависеть от тех, кто оказывается с ним рядом, и от того, есть ли у него деньги. Деньги позволяют без колебаний продать писчебумажный магазин, и так появляется еще больше денег, деньги дают человеку уверенность в себе и возможность покупать новую одежду каждый сезон, благодаря деньгам улыбка и взгляд получают ту любовь, которую заслуживают, и сохраняются дольше, чем им положено. Другие на месте Ньевес придумали бы что-нибудь, вырвались бы из этого абстрактного будущего, которое кажется таким комфортным и которое на самом деле просто ловушка, которая захлопнется рано или поздно, но сейчас речь идет не о других людях, а о той девочке, что жила в моих мечтах, когда мне было пятнадцать лет. Поэтому мои фантазии не были еще одной трогательной вариацией на тему бедных крестьянок и принцев, профессоров и цветочниц, аристократов и хористок, хотя что-то такое в них чувствовалось — то ли из-за моей предстоящей неотвратимой свадьбы, то ли оттого, что я казался себе предателем и испытывал одновременно чувство превосходства и радость избавления: я казался себе предателем и в то же время испытывал чувство превосходства по отношению к Ньевес и радость от того, что не стал таким, как она. Я думал не о себе, а о том, какой могла бы стать ее жизнь, как будто я на миг получил возможность (и было еще не поздно) изменить эту жизнь, решить, какою ей быть, так же, как вчера утром я решил, куда идти и где играть симпатичному шарманщику из моего прошлого и женщине с косой. Уверен, что девочка из писчебумажного магазина увидела бы другие вещи и другие страны, что ее окружали бы люди, не похожие на тех, что окружают ее сейчас, что у нее было бы больше денег и жизнь ее не была бы погребена под стружкой и кусками резины. Не знаю только, как посмел я даже думать об этом и как посмел до сих пор не выбросить наконец эту тщеславную мысль из головы, почему возвращаюсь к ней снова и снова? С чего я взял, что, живя со мной, она была бы счастливее? Да и я тоже был бы другим, и, быть может, проводил бы дни в писчебумажном магазине вместе с ней.
— Есть у тебя стержни для такой ручки? — спросил я, вынимая из кармана немецкую ручку, которую я купил в Брюсселе и которая мне очень нравится.
— Покажи, — сказала она, раскрутила ручку и посмотрела на почти пустой стержень. — Кажется, таких нет. Подожди, я посмотрю в коробках наверху.