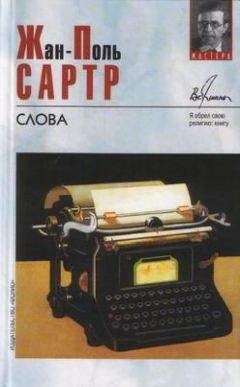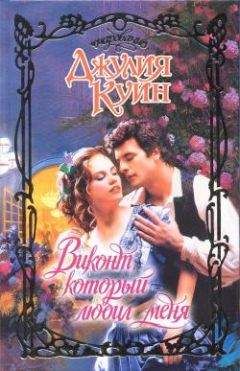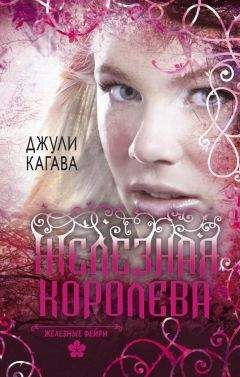Жан-Поль Сартр - II. Отсрочка
Но вдруг к нему вернулись угрызения совести: однажды вечером он прибыл из Барселоны счастливым, да, поразительно счастливым. Он дал себе восемь дней отгула. Завтра он снова уедет. «Да, я не добрый», — подумал он.
— Есть горячая вода?
— Теплая, — отозвалась Сара. — Кран слева.
— Хорошо, — сказал Гомес. — Пойду-ка побреюсь.
Он вошел в ванную комнату, оставив дверь широко открытой, повернул кран и выбрал лезвие: «Когда уеду, — подумал он, — игрушечное оружие долго не проживет». Вернувшись домой, Сара, без сомнения, запрет его в большом шкафу для лекарств; если только не сочтет, что проще забыть его здесь. «Она учит Пабло только девчачьим играм», — подумал он. Когда еще он свидится с Пабло, и во что она его за это время превратит? Однако у мальчика строптивый вид! Гомес подошел к умывальнику и увидел их обоих в зеркале: Пабло, запыхавшись, застыл посреди комнаты, весь пунцовый, расставив ноги и засунув руки в карманы; Сара стояла перед ним на коленях и, не говоря ни слова, смотрела на него. «Она хочет понять, похож ли он на меня», — подумал Гомес. Он почувствовал себя неловко и бесшумно закрыл дверь.
«…где ко мне присоединилась Сара с малышом… Ждите меня четырехчасовым поездом в воскресенье и закажите мне…», одна рука сильно сжала его левое плечо, другая — правое. Теплое и дружеское пожатие. Ну вот: он положил письмо в карман и поднял глаза.
— Привет.
— Одетта только что мне сказала… — проговорил Жак, погружая взгляд в глаза Матье. — Бедный старик!
Не сводя с брата глаз, он сел в кресло, которое только что покинула Одетта; рука его автоматически приподняла обе брючины; ноги скрестились сами собой; он не замечал этих мелких побочных действий. Он целиком превратился в собственный взгляд.
— Знаешь, я еду не сегодня, — сказал Матье.
— Знаю. Ты не опасаешься неприятностей?
— Подумаешь, несколькими часами позже… Жак глубоко вздохнул:
— Что тебе сказать? В другие времена, когда человек уходил на войну, ему говорили: защищай своих детей, защищай свою свободу или свой дом, наконец — защищай Францию, всегда можно было найти причину, чтобы рискнуть своей шкурой. Но сегодня…
Он пожал плечами. Матье, опустив голову, постукивал каблуком по земле.
— Молчишь, — проникновенно сказал Жак. — Ты предпочитаешь молчать из страха сказать лишнее. Но я знаю, о чем ты думаешь.
Матье все еще постукивал туфлей по земле, не поднимая головы, он ответил:
— Да нет, не знаешь.
Наступило короткое молчание, затем он услышал неуверенный голос брата:
— Что ты хочешь этим сказать?
— Что я совсем ни о чем не думаю.
— Как хочешь, — сказал Жак с легким раздражением. — Ты ни о чем не думаешь, но ты пришел в отчаяние, а это одно и то же.
Матье заставил себя вскинуть голову и улыбнуться.
— Я вовсе не пришел в отчаяние.
— Не хочешь же ты меня убедить, будто ты уходишь, смирившись, как баран, которого ведут на бойню?
— Да, — сказал Матье, — все же я немного похож на барана, ты не находишь? Я уезжаю, потому что не могу поступить иначе. Справедлива эта война или нет, для меня это второстепенно.
Жак откинул голову и, полузакрыв глаза, посмотрел на Матье:
— Матье, ты меня удивляешь. Ты меня бесконечно удивляешь, я тебя больше не узнаю. Как же так? У меня был бунтующий, циничный, язвительный брат, который никогда не хотел быть одураченным, который мизинцем не мог пошевелить, не пытаясь понять при этом, почему он шевелит им, а не указательным пальцем, почему он шевелит мизинцем правой руки, а не левой. И вот война, его посылают в первых рядах, и мой бунтарь, мой сокрушитель посуды, не задавая лишних вопросов, покорно уходит, говоря: «Я уезжаю, потому что не могу поступить иначе».
— Моей вины здесь нет, — сказал Матье. — Мне никогда не удавалось сформировать собственное мнение по вопросам такого рода.
— Но давай рассуждать[26], — сказал Жак, — мы имеем дело с неким господином — я имею в виду Бенеша, — который твердо пообещал построить из Чехословакии конфедерацию по швейцарской модели. И он действительно за это взялся, — с силой повторил Жак, — я это прочел в протоколах Мирной конференции, видишь, я от тебя не скрываю своих источников. А это намерение равнозначно гарантии для судетских немцев подлинной национальной автономии. Ладно. Но потом этот господин полностью забывает о своих обязательствах и ставит над немцами чехов, которые за ними надзирают, их судят, ими управляют. Немцам это не нравится: это их естественное право. Тем более, что я знаю чешских чиновников, я был в Чехословакии: ты не представляешь себе, какие они буквоеды! Так вот, им хотелось бы, чтобы Франция, как они утверждают, страна свободы, пролила свою кровь ради их бюрократического произвола над немецким населением, и теперь ты, преподаватель философии в лицее Пастера, собираешься провести свои последние молодые годы в десятифутовых траншеях между Битхе и Виссембургом. Теперь ты понимаешь, почему сейчас, когда ты мне сказал, что уезжаешь, смирившись, и что тебе наплевать, справедливая это война или нет, мне за тебя досадно.
Матье с недоумением смотрел на брата; он думал: «Национальная автономия, никогда бы не додумался». Он все же, для очистки совести, сказал:
— Они хотят не национальной автономии: судеты уже требуют присоединения к Германии.
Жак страдальчески скривился:
— Пожалуйста, Матье, не говори, как мой консьерж, не называй их Судетами. Судеты — это горы. Скажи: су-детские немцы или, если хочешь, просто немцы. Ну и что? Они хотят присоединиться к Германии? Но это наверняка потому, что их довели до предела. Если бы им сразу дали то, чего они просили, всего бы этого не случилось. Но Бенеш юлил, лукавил, потому что наши шишки внушили ему, будто у него за спиной Франция: и вот результат.
Он с грустью посмотрел на Матье.
— Все это, — сказал он, — я бы еще мог перенести, ибо давно уже знаю, чего стоят политики. Но когда ты, разумный человек с университетским образованием, настолько теряешь элементарное чутье, что утверждаешь, будто идешь на эту бойню потому, что не можешь иначе, этого я перенести не могу. Старик, если таких, как ты, много, Франция пропала.
— Но что, по-твоему, мы должны делать? — спросил Матье.
— Как? Ведь у нас пока еще демократия, Тье! Во Франции, кажется, еще есть общественное мнение.
— Ну и что дальше?
— Что ж, если миллионы французов вместо того, чтобы истощаться в пустых спорах, разом объединились бы, если б они сказали нашим правителям: «Судетские немцы хотят вернуться в лоно Великой Германии? Пусть возвращаются: это касается только их!» Тогда не нашлось бы политика, который из-за подобной безделицы осмелился бы на войну.
Он положил руку на колено Матье и примирительно подытожил:
— Я знаю, ты не любишь гитлеровский режим. Но вполне можно не разделять твоих предубеждений против него: это молодой, динамичный режим, который хорошо проявил себя и имеет неоспоримую притягательность для народов центральной Европы. И потом, как бы то ни было, это их дело: нам не следует во все это вмешиваться.
Матье подавил зевок и подобрал ноги под стул; он исподтишка бросил взгляд на слегка одутловатое лицо брата и подумал, что тот стареет.
— Возможно, — послушно согласился он, — возможно, ты и прав.
Одетта спустилась по лестнице и молча села рядом с ними. В ней была грация и безмятежность домашнего животного: она садилась, уходила, возвращалась уверенная, что ее не замечают. Матье с раздражением повернулся к ней: он не любил видеть их вместе. Когда Жак был здесь, лицо Одетты не менялось, оно оставалось гладким и ускользающим, как лицо статуи без зрачков. Но его следовало читать по-другому.
— Жак считает, что свой отъезд я воспринимаю слишком легко, — сказал Матье, улыбаясь. — Он пытается внушить мне чувство обреченности, растолковывая мне, что я собираюсь дать себя убить ни за что.
Одетта улыбнулась ему в ответ. Это была не светская улыбка, которой он ожидал, но улыбка для него одного; за одно мгновенье море снова было здесь, и легкое покачивание зыби, и китайские тени, скользящие по волнам, и расплавленное солнце, подрагивающее на волнах, и зеленые агавы, и зеленые иглы, устилающие землю, и игольчатая тень высоких сосен, и белая разбухшая жара, и запах смолы — вся плотность сентябрьского утра в Жуан-де-Пен, Дорогая Одетта. Неудачно вышедшая замуж, недостаточно любимая; но разве имел кто-нибудь право сказать, что она погубила свою жизнь, раз она могла улыбаться, могла возрождать сад на побережье и летний зной на море? Он посмотрел на желтого, жирного Жака; его руки дрожали, он нервно постукивал пальцами по газете. «Чего он боится?» — подумал Матье. В субботу 24 сентября, в одиннадцать часов утра Паскаль Монтастрюк, родившийся в Ниме 6 февраля 1899 года и прозванный Кривым, поскольку он проткнул себе левый глаз ножом 6 августа 1907 года, пытаясь перерезать веревки на качелях своего маленького товарища Жюло Трюффье и посмотреть, что из этого получится, продавал, как всегда по субботам, ирисы и лютики на набережной Пасси, недалеко от станции метро; у него были свои персональные приемы: он накладывал букеты, прекрасные букеты, в ивовую корзинку, поставленную на складной стул, и выскакивал на мостовую, машины, сигналя, проезжали мимо, а он кричал: «Букеты, красивые букеты для вашей дамы!», — потрясая желтым букетом, автомобиль бросался на него, как бык на арене, а он не шевелился и, запрокидывая голову, позволял автомобилю переть на него, как прет большое глупое животное, и кричал в открытую дверцу: «Букеты, красивые букеты!», — и обычно автомобилисты останавливались, он вскакивал на подножку, и автомобиль съезжал к тротуару, потому что были выходные, и эти господа предпочитали вернуться в красивые дома на улице де Винь или дю Ранелаг с букетами для своих дам. «Красивые букеты!», — он отпрыгнул назад, чтобы не попасть под машину, наверняка, уже сотую, проносившуюся мимо без остановки: «Черт-те что!» Что на них сегодня утром нашло? Водители вели машины быстро и небрежно, сгорбившись над рулем, безмолвные, как горшки. Они не сворачивали на улицу Чарльз-Диккенс или проспект Ламбаль, они на предельной скорости мчались вдоль набережной, как будто хотели достигнуть Понтуаза; Кривой Паскаль больше ничего не понимал: «Но куда они гонят? Куда?». Он уходил, глядя на свою корзину, полную желтых и розовых цветов, сегодня ему не везло.