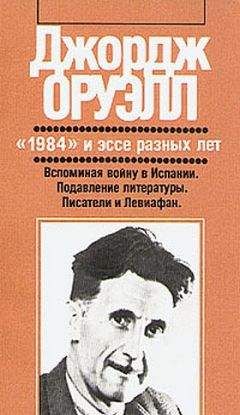Патрик Макграт - Приют
– Да.
– Бросила его?
Стелла кивнула.
– Теперь будешь жить с нами?
– С вами.
Эдгар широко, с оскалом улыбнулся, порывисто обвил рукой ее шею, они вошли в зал и обнялись посреди него.
Мне, разумеется, приходило в голову, что Стелла может совершить подобный шаг, однако я полагал, что она меня послушает. Недооценил степень ее отчаяния и, видимо, привязанности к Эдгару. Таким образом, я потерял Стеллу из виду и о том, что происходило дальше, знаю только по ее рассказу, неуверенному, бессвязному, подчас взволнованному. Едва ли не первым делом я спросил, как она представляла себе нашу реакцию на свое бегство. На этот вопрос Стелла ответила ясно и четко: она считала, что Макс вернется из больницы домой и хватится ее. Чарли, конечно, тоже вернется к тому времени из школы, но она старалась не думать о том, какое впечатление произведет все это на мальчика. Макс начнет звонить по телефону. Недоумение сменится озабоченностью, потом перейдет в тревогу. Позже Джек, Макс и я встретимся и установим, что произошло. Макс поначалу не захочет принять этого вывода, но через несколько часов поймет, как она поступила с ним. Стелла сказала, что не хотела думать, каково будет у него на душе, не хотела думать ни о Чарли, ни о том, как мальчику объяснят ее отсутствие. Она умышленно не принимала его во внимание, когда укладывала чемодан, вызывала такси и уезжала, не оставив записки. Она старалась совместить его в сознании с Максом, видеть в сыне часть того человека, которого покидает. Думать о реакции Чарли на ее исчезновение было слишком опасно. Проснувшись утром с сознанием того, что наделала, она снова отогнала мысль о сыне. От ее вины оставалась лишь какая-то тень, шевелящаяся за сиянием любовника. Она не хотела смотреть на нее, должна была не замечать той тени – от этого зависело ее счастье.
Как прошел тот первый вечер?
Он был превосходным, более того – самым счастливым в ее жизни. Ник сходил за рыбой, жареной картошкой и выпивкой, они несколько часов просидели за столом на кухне. Казалось, сказала Стелла, они украли свое счастье или, скорее, случайно наткнулись на него и удрали с ним, так как оно принадлежало кому-то другому и они не имели на него права. Попойка затянулась допоздна. Стеллу приводила в восторг перспектива провести там всю ночь и уже никогда не возвращаться в больницу. Ник являлся членом их очаровательного кружка, ведь он был их другом и помощником с самого начала. Это было его помещение, теперь он давал приют обоим. Ник ей нравился, она ему тоже, и было ясно, что унылая жизнь, которую вели оба художника, теперь переменится к лучшему. Что до Эдгара, я прекрасно представляю себе, как он обрадовался такому повороту событий. Он сманил Стеллу от нас, убедил ее бросить надежность, обеспеченность и последовать за ним в подполье, где она рассчитывала обрести свободу. Свободу!
Как обычно, Эдгар времени не терял. Он знал, чего хочет, думаю, захотел этого еще до побега; именно это побудило его так безрассудно позвонить Стелле из Лондона: он хотел ваять ее голову. Эдгар вновь стал художником, и ему не терпелось воплотить свои отношения со Стеллой, тот сложный комплекс сильных чувств, которые она вызывала у него, в произведение искусства. Он около часа делал с нее эскиз в мастерской, и она была зачарована, видя, как его глаза поднимаются от бумаги, ощущая на себе его взгляд, бесстрастный, пристальный взгляд, слыша чирканье карандаша, бормотание и вздохи, создающие впечатление, что он делает сложную хирургическую операцию, а не рисунок. Она до сих пор не видела Эдгара за творческой работой и понимала, что не знает его.
Потом Стелла взглянула на рисунок и пришла в недоумение. Там были многочисленные линии, размытые очертания, перекрестные штрихи, завитушки. Она скорее угадывала, чем узнавала себя. Рисунок казался ей неумелым, неуверенным, каким-то слабым. Она спросила Эдгара, всегда ли он так рисовал. Ник был в мастерской, сидел на подоконнике.
– Всегда ли я так рисовал?
Широко улыбнувшись, он бросил взгляд на приятеля.
Стелла стояла у стола и, хмурясь, смотрела на лист бумаги.
– Объясни, – попросила она, – почему?
Эдгар подошел и встал рядом с ней.
– Что почему?
– Почему ты не хочешь четкости? Может, я ничего в этом не смыслю? Впечатление такое, будто ты совершенно не знаешь меня.
– В том-то и суть, – сказал Ник.
– Чего я не хочу, – начал Эдгар, – так это видеть тебя…
Он потер лицо, придя в раздражение из-за того, что приходилось объяснять. Руки его были в графите, и он испачкал лоб, когда убирал с глаз волосы, ставшие теперь длинными, косматыми. Он весьма смутно понимал, почему работает именно так – маскирует, как ни странно, свои чувства.
– Какой ты не хочешь видеть меня?
– Такой, как видишь себя ты. Как видят тебя другие. Желанной, красивой. Меня это не интересует. Я хочу лишь добиться сходства.
Стелла не поняла.
– То есть изобразить меня как незнакомку?
Теперь Эдгар тоже хмурился, глядя на рисунок и раздраженно постукивая карандашом по столу.
– Даже не как незнакомку.
– Как предмет? – Стелла потерла пятно на его лбу. – Неодушевленный? Бесчувственный?
– Нет, только то, что вижу.
Стелла уловила в его словах проблеск смысла.
– Не то, что чувствуешь?
– Не то, что чувствую.
– И это называется сходством?
– Это называется правдой, – уточнил Ник.
Эдгар резко поднял голову.
– Это называется…
Он произнес непечатное слово, и они с Ником захохотали. Эдгар улыбнулся Нику, потом подошел к нему, взял его лицо в ладони и поцеловал в лоб. Ник был нелепо смущен и доволен этим проявлением добрых чувств.
Первые дни у Стеллы с Эдгаром проходили так. Все утро они валялись в постели, потом одевались и выходили в мастерскую. Стелла не притрагивалась к косметике, носила косынку и старую блузку навыпуск, простую черную юбку или брюки. Она стряпала, и они втроем ели на кухне. После обеда Эдгар принимался за работу, Стелла позировала ему, иногда три-четыре часа кряду. Работал он с напряженной сосредоточенностью, говорил, что хочет порисовать ее, прежде чем лепить в глине. На третий день Стелла позировала обнаженной. Стояла на простыне перед стеной. Эдгар совершенно равнодушно воспринимал ее наготу, и она приняла весьма откровенную позу. В мастерскую вошел Ник и встал, бесстрастно глядя на нее. Стелла решила: и пусть себе смотрит – очевидно, нагота не производит на него впечатления. Эдгар не замечал его, пока Ник не обронил какой-то фразы, после этого спокойно предложил ему поонанировать. Стеллу это сильно возбудило.
Когда Эдгар отпускал ее, она сидела на кухне с зеркальцем, пытаясь разглядеть в себе то, что видел он. Если возвращалась в мастерскую, то либо он продолжал работать, не обращая на нее внимания, либо они укладывались в постель.
Вечером Стелла снова стряпала, или Ник шел за рыбой и жареной картошкой, они пили и разговаривали. Говорили обо всем, но главным образом об искусстве.
Четыре-пять дней спустя, по мере того как Стелла осознавала чудовищность того, что она наделала, и положение, в котором оказалась, у нее начали возникать неожиданные приступы сильной тревоги. Случалось это рано утром, пока Эдгар спал. Она пыталась отогнать тревогу, ей было неприятно, что идиллия рушится, и помалкивала о том, что с ней происходит. Это пройдет, убеждала она себя, об Эдгаре забудут, мы сможем спокойно покинуть этот склад и жить, не привлекая к себе внимания. Дальше этого ее мысли о будущем не шли. Но чаще всего она не думала о большом мире снаружи, пыталась, сказала она, не вспоминать о Чарли, но, подозреваю, без особого успеха.
Домашнее хозяйство там было примитивным. Дел было много, и Стелле это нравилось. Даже просто содержать себя в чистоте представляло проблему. Мужчины относились к этому спокойнее, чем она. Они располагали всего одной раковиной, одним краном, одним туалетом. Раковина часто бывала полна кистей. Стелла с этим мирилась. Пусть они грязные, главное, что вместе. Ее отождествление себя с Эдгаром усиливалось изо дня в день. Она сказала мне, что намеренно перенимала его вкусы, чувства, мысли. Равнодушие Эдгара к домашнему уюту вызывало у нее стыд за те годы, когда обеспечение уюта мужу и сыну было единственным ее занятием. Она начала понемногу писать, когда этого никто не видел.
Стелла стряпала простые блюда на двухконфорочной плите, составляла списки необходимых покупок и отдавала Нику, делившему расходы пополам с ней. Самым лучшим временем бывали вечера, когда все трое сидели за столом, пили и разговаривали. Она усваивала совершенно новый образ мыслей и чувств, расставалась со своим прежним, пошлым, как ей казалось, «я». Макс и больница с каждым днем отдалялись все больше.
Это, по словам Стеллы, был период очень быстрого роста; она с каждым днем все лучше понимала, что значит думать, чувствовать и видеть как художник. То, что они являлись изгоями, то, что Эдгар не мог выйти на улицу днем из опасения быть узнанным и арестованным, лишь усиливало ее опьянение этим новым образом жизни, придавало привкус опасности, казавшейся Стелле присущей бытию художника.