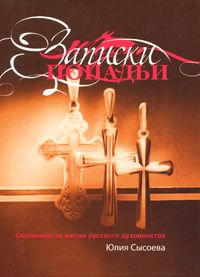Михаил Елизаров - Ногти (сборник)
— Это место покойника.
Трамвай причалил к остановке, и не успел приятнейший мужчина с тубусом под мышкой присесть на злополучное кресло, как захрипел, ухватился за нагрудный карман, потом посинел и затих, выронив тубус. Все, кто стояли возле, отшатнулись, но одна прозорливая баба бросилась старику в ноги:
— Скажи, что ждет!
И тот, не задумываясь, предрек:
— Зима будет снежная, а весна — кровавая, — и вышел, грохоча бутылками.
По вагону прокатилось:
— Николай Угодник…
Очевидцы рассказывали, как на шестом этаже дома № 3 по улице Коржановской, на сияющем свежим цинком подоконнике стоял юноша в белых тряпках вокруг бедер и звонко возвещал:
— Я забираю мой космос с собой!
Сердобольная толпа уговаривала в одно горло:
— Кому он на хер нужен, космос твой! Оставляй себе и слезай, сорвешься, неровен час!
Юноша, с нарастающим звоном, в котором слились вызов с угрозой, возвестил вторично:
— Я забираю мой космос с собой! — лягнул пяткой кровельный лист, стрельнувший, как пистон. Юноша сдернул тряпки и показался толпе полностью обнаженным.
Народ так и ахнул:
— У мыша яйца больше!
Страшно закричал юноша, изо рта его вылетели кинжальные языки синего пламени, он притопнул, взмыл в воздух и штопором ввинтился в мутно-бирюзовую бездну небес.
10
Выбрался к морю, и солнце, воздух и вода в три дня сделали из меня кромешного урода. Обгорел, облез. Волосы свалялись и закурчавились, желваки под глазами налились плодовой тяжестью. Вдобавок я обильно покрылся ватрушкообразными прыщами: розовый пухлый шанкр, величиной с крупную горошину, в середине ссохшаяся сукровица.
Поначалу меня даже принимали за местного наркомана, и не особо чванливые приезжие добродушно расспрашивали, почем в поселке анаша и где самый дешевый портвейн. А потом я вовсе загнил, и люди избегали обращаться ко мне за советами.
Я пытался противиться заразе, покупал щадящие кишечник ананасовые йогурты, но паршивел и шелушился. На теле проявились экземолишаеподобные разводы и зудящие наросты.
Аптекарша, не поднимая головы, выудила откуда-то снизу «Трихопол» и презрительно швырнула на прилавок. Я прямо-таки сник от обиды и пояснил:
— Это что-то вроде грибка. Мне нужна какая-нибудь протирка на спирту или эмульсия, — и сунул ей под нос узорчатую, как удав, руку.
Аптекарша брезгливо отпрянула.
— Протирка тут не поможет. — Она умно скривилась и надела очки в толстой оправе. — Вам, молодой человек, к врачу надо. Может, у вас инфекция в крови…
— Псориаз?! — гадливо охнул я.
— Похоже на псориаз. Или хуже… К врачу! В Алушту!
На улице ко мне подошел развязный испитой мужик, похожий на ведущего «Клуба кинопутешественников» Юрия Сенкевича. Он сказал сундучным голосом:
— Когда я пацаном работал в далеком северном порту Ванино, в механическом цеху случилось несчастье. Женщина попала волосами в токарный станок, и ей сломало шею.
— А у меня, — я пальцем потыкал в свои болячки, — горе. Что делать — не знаю. Подохну скоро! — задорно так сказал.
«Сенкевич» послюнил ноготь и сковырнул с моего плечевого прыща подсохшую гнойную накипь.
— Ты знаешь, что такое урина?
— Урина — это моча…
— Ты простудил кожу. — «Сенкевич» назидательно напряг указательный палец. — Когда заходишь в сортир, чем пахнет? Пахнет так, что глаза дерет? Это аммиак. Думаешь, хирурги перед операцией дезинфицируют руки спиртом?
Я молчал, раздавленный невежеством.
— Знаешь, что такое — родная урина?
— Урина — это моча.
— Она все может, родная урина.
Так я стал каждое утро обливаться золотистой мочой. Солнце выпаривало ее до кристаллов, и я сверкал, как соляной столб. Соседи потаенно вздыхали. Я подслушал их глухие голоса:
— Мальчик нездоров. Стульчак бы надо обрабатывать после него. Хлорной известью.
Я перестал оправляться в нашем уютном фанерном сортирчике. Таясь, я поднимался чуть свет и уходил в далекие камыши лимана, срал там, осторожный, как степной байбак, потом брел на дикий пляж, подальше от пансионатов и пионерских лагерей.
Я бросался в море и уплывал на одинокий утес, чтоб в уединении праздновать закат моего тела. В шторм вокруг утеса всегда бились тяжелые волны. Неудобный сам по себе, ребристый, скользкий утес постоянно захлестывало, и поверхность камня украшалась размозженными медузами и скальпами водорослей. На нем я холил, жалел свое больное тело, скоблил жесткой мочалкой, ссал в пригоршню, обливался, обсыхал — и опять терся мочалкой.
От скуки я вылавливал быстрых крабиков, целовал им клешенки, крабики щипались, и я раскусывал их пополам. Когда на скрипучих, с рыжими полозьями, катамаранах проплывали счастливые семьи, я распластывался на камне, сжимался, как анус, и с ненавистью бормотал:
— Прокаженный, прокаженный!
Я жил на камне весь день, питаясь сырыми злаками и похищенными фруктами. Если становилось невыносимо жарко, я сползал в широкую расщелину у воды. Каменный выступ защищал меня от прямых солнечных лучей, я лежал не шевелясь, разглядывая свои длинные белые ноги, ранящие сходством с дохлыми рыбинами.
Но вечер густел, напитывался ночью, и я выплывал на берег. Я подбирался к сумасшедшим огням дискотек и, хоронясь в тени треугольных кипарисов, созерцал танцующее людство, пахнущее дымом, сосисками, алкоголем, молоками. Я вгрызался глазами в каждую танцующую пару, вбирал их запах, примерял их чистые тела. Недобрым пастухом, завистливым, наблюдал я вверенное мне стадо, пас до последнего аккорда, а после, в тишине, уходил на ночлег в свою конурку и спал там до рассвета чутким собачьим сном.
Однажды ранним утром с моего утеса я увидел бредущую по берегу пару: тощий брюнет и блондинка. Они, бедняжечки, шептались вполголоса, а я слышал каждое слово. Тощего звали Глеб, безымянная блондинка называла его так. Они шли в бухту Любви. На крымском побережье много таких бухт. Собственно говоря, так называют все труднодоступные местечки, куда можно попасть только вплавь или по крутой, в ладонь шириной, тропинке.
Любовники заметили меня, стоящего на камне, но не придали значения моему существованию. Я был для них заурядной деталью ландшафта: «Когда бы вы ни вышли к морю, всегда на камне будет этот странный йог-полудурок».
Последний шторм, как ловкий шулер, перетасовал водяные пласты, и вместо теплой, как суп, воды, пришла ледяная зелень из самых глубин. В такой воде не купались даже дети. Только я, презирающий донельзя собственную плоть, плыл к моему убежищу.
Они решили пробираться в бухту по тропинке. У Глеба под худой спиной просвечивали ребра, блондинка шла, гримасничая ягодицами. Мой взгляд упал на них и задержался, но тут же был пережеван, растерт безжалостными, точно жернова, словами, которые шептали ягодицы.
Я привычно напоил мочалку, обтерся и озяб, с отвращением глянул в мутно-промозглый омут, куда мне предстояло прыгнуть через мгновение. Ледяная вода будто содрала кожу. Со мной чуть не случился приступ удушья, но я не позволил себе утонуть.
Глеб и блондинка осторожно карабкались от глаз подальше. Я полз за ними по обрывистой стене, проворный, как таракан.
Парочка сидела на одеяле, придавленном в четырех углах похожими на голые черепа камнями. Огромный кулек с продуктами щелкал на ветру. Любовники уже подняли веселую возню, и тут, с отвесной стороны, явился незнакомец отвратительного вида, сухой и жилистый, в кровавых язвах. Он, не проронив ни слова, уселся ждать.
Уныло переглядываясь, любовники доели фрукты, свернули одеяло. Незнакомец встал во весь свой, как оказалось, исполинский, рост и закружился в стремительном туземном танце. Извиваясь червивым телом, он плясал, и страшная тишина, что сопутствовала танцу, приближала чувствительных любовников к обмороку. Им было бы достаточно выразительно воскликнуть: «П-шел вон, гнилье!» — и облезлый тиран сгинул бы и разложился в прах.
Сердце урода грохотало первобытным тамтамом. Сердца любовников мелко стучали, как скальная осыпь. Урод стянул плавки. Затравленным их лицам предстал жабьего цвета треугольник с черным гнездом, и из гнезда морщинистое горло.
Глеб вскочил на ноги, и раскаяние черным флером упало на его лицо. Он пятился, осторожно переставляя ноги, пока не сделал шаг в пустоту. Потом был крик. Тощий Глеб падал на острые камни, торчащие из воды, как обломки гигантской вставной челюсти.
Я спал около суток и проснулся совершенно исцеленным. Ни прыщика, ни пятнышка. Гладенький, как античная статуэтка. А когда вымыл голову, стал такая лапочка, что жена моего хозяина вздохнула мне вслед:
— Господи, и хорошенький же какой… Прямо — артистка, и все тут!
На пляже мне довелось быть свидетелем отвратительной сцены: компания подростков морально истязала взрослого юношу Борю. Особенно усердствовал один, именовавший себя Иннокентием. Жестокие играли в волейбол, и Боря, толстый, застенчивый и прекрасный, в легких сандалиях, пытался втиснуться в их круг, топтался в песке, руками призывая мяч, покрикивал, шутил. Но Иннокентий, а вслед за ним другие, злословили сперва иносказательно, потом открыто, и вся эта картина была настолько невыносима, что я отправился домой с осадком в сердце.