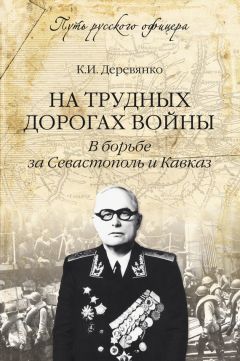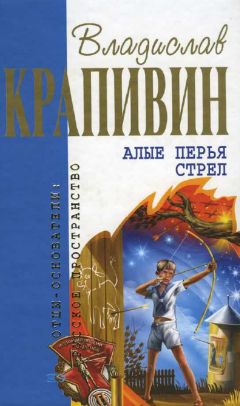Перья - Беэр Хаим
Гость сразу же сообщил, что у нас появился новый сосед и, судя по тому, что грузчики заносят к нему с утра десятки ящиков с книгами, с нами будет соседствовать глава ешивы, не меньше. Мать усмехнулась. Лучше увидеть своими глазами, чем строить догадки, сказала она, а ей как раз случилось заметить, что на переплетах книг, которыми грузчики заполняют квартиру нашего нового соседа, красуются тисненные золотом и серебром портреты Ленина и Сталина. Неожиданное известие огорчило господина Рахлевского.
Риклин вытер краем салфетки губы и подбородок — «подтерся халатом ближнего своего», сердито сказала об этом мать значительно позже, — и присоединился к беседе. По пути к нам он тоже заметил грузчиков, поднимавшихся и спускавшихся по лестнице, словно ангелы в сновидении Яакова, и те поприветствовали его со всей надлежащей любезностью, как это принято у коллег.
Курдские грузчики, объяснил реб Элие, наслаждаясь удивлением присутствующих, традиционно занимаются похоронами обитателей русской колонии в Иерусалиме. Проходя иной раз через Русское подворье к больнице «Авихаиль», он видит их: в черных шляпах они поджидают возле грузовика, стоящего у дверей большой церкви с десятью зелеными куполами. Когда колокола умолкают, двери церкви открываются, и бородатые православные священники выходят из них с иконами в руках, а за ними выносят гроб, покрытый черным покрывалом и украшенный белыми восковыми цветами, но не имеющий на себе знака креста. Грузчики принимают гроб, встают вокруг него в кузове, и машина отправляется в Эйн-Карем на русское кладбище. Грузчики — богобоязненные евреи, пояснил реб Элие, и у них твердо заведено, что ни иконы, ни священники не приближаются к ним ближе чем на четыре локтя. Поэтому участникам похоронной процессии, священникам и белолицым монахиням, приходится ехать за еврейским грузовиком в своих машинах.
Господин Рахлевский поцокал языком и заметил, что в Иерусалиме все напоминает о смерти. Но было бы славно, добавил он, если бы наши богобоязненные курдские братья, носящие на своих плечах к могиле верующих русских, когда-нибудь похоронили также и красные книги русских безбожников. Пусть не в точности, но это пожелание исполнилось уже через несколько лет, когда и сам господин Рахлевский, и мой отец стали заворачивать сыр и маслины своим покупателям в листы принадлежавших доктору Пеледу книг.
Сосед выпил налитый ему стакан чая в два-три глотка, посадил меня к себе на колени и громко запел бурлацкую песню, с которой на Волге тянули против течения тяжелые баржи. При этом он качал меня из стороны в сторону, но вскоре утомился, поставил меня на ноги и сообщил, что его страдающие от ревматизма конечности уже слышат приближение дождя.
Все замолчали и посмотрели в окно на синее безоблачное небо. Лишь на западе, над горой, в светло-серой меловой почве которой моей матери было суждено обрести со временем последний покой, виднелось маленькое, с ладонь, облачко, разглядеть которое было можно только молодыми глазами.
Глава пятая
Верный своему обещанию, Ледер поздно вечером появился у нас.
Он впорхнул, как тяжелый мохнатый ночной мотылек. Побился о косяки в дверях, уронил у самого входа сумку, набитую жестяными коробками, квитанционными книжками и мешочками монет, и, сразу же объявив, что давно здесь не был, постучал по кружке для пожертвований школе слепых. Никто, кроме меня, не обратил внимания на его появление.
В полуоткрытую дверь был виден силуэт отца, сидевшего в неосвещенной соседней комнате. Он спал, сидя перед радиоприемником, зеленый глаз которого отбрасывал на его лицо таинственно мерцающие блики. На кухне Аѓува ругала мать, размахивая перед ней моей тетрадкой по математике. Как может мать красоваться в своем новом платье, испещренном мелкими крестиками, говорила она, когда даже преподаватели в школах «Мизрахи», которых вот уж не заподозришь в чрезмерной богобоязненности, пишут знак плюс без нижнего штриха, чтобы он не выглядел, как, прости Господи, крест.
Низкорослый сборщик пожертвований насмешливо прислушался к доносившейся из кухни перепалке, изобразил на лице блаженство, подставив ухо слышавшимся из соседней комнаты звукам пения кантора Секунды [161], и направился к висевшей у электрического счетчика на стене желтой коробке. Сняв с нее крышку, Ледер высыпал на стол находившиеся в ней монеты и сказал, что теперь, даже если мать зайдет и увидит, что мы здесь секретничаем, она ничего не заподозрит, раз он сидит, как крыса, над своими динарами.
— Жаль, тебе зеркало некому было подставить сегодня, — сообщил Ледер. — Выглядел ты, как пергаментная бумага.
В саду Мамилы, излагая мне мальтузианскую теорию народонаселения, Ледер нашел, что я стал похож на запуганных слушателей раввина Шолема Швадрона [162]:
— Ровно так они выглядят, когда реб Шолем срывает перед ними покров с преисподней и приглашает их заглянуть в ее тусклые синеватые недра и прислушаться к стонам злодеев, которые, стоя там по подбородок в кипящей сперме, умоляют своих собратьев не поднимать волну.
Ледер усмехнулся и сказал, что, если мне еще не приходилось бывать в набитом людьми и пропахшем потом зале синагоги «Зихрон Моше» [163], я должен непременно сходить туда в один из ближайших субботних вечеров. Это позволит мне убедиться в справедливости его слов о том, что смерть и сексуальное влечение идут рука об руку от любовного ложа к могиле, от четырех шестов свадебного балдахина к двум шестам погребальных носилок. И, что еще важнее, я пойму наконец, как велик человеческий страх перед болезнями и смертью.
— И не только любезный нашему сердцу реб Шолем вливает в души своей паствы эту пугающую сладкую смесь, — продолжил Ледер. — Точно так же ведут себя все проповедники, зовущие нас разрушить лживые декорации спокойного и безопасного мира, в реальность и прочность которого хотят верить люди.
Груда блестящего металла, перекочевавшего из кожаной сумки Ледера на стол, заметно уменьшилась, но зато теперь рядом с ней полукругом выросли башенки из монет одинакового достоинства. Ледер сообщил, что совесть не позволяет ему юлить и скрывать от меня истинную причину его ночного прихода в наш дом. Он долго мучился мыслью о том, что и ему, знаменосцу гуманного, утонченного линкеусанства, придется рано или поздно прибегнуть к тактике запугивания, чтобы пробить коросту равнодушия, покрывающую людские сердца. Но теперь, когда он окончательно заключил, что запугивание является совершенно необходимым и, как следствие, непредосудительным методом, у него не осталось сомнений в том, что вегетарианство представляет собой наименьшее зло.
— Вегетарианство есть наименьшее зло! — повторил он еще дважды.
Верно, однако, продолжил Ледер, что абстрактное вегетарианство, парящее в высших сферах, желающее создать рай на земле и ждущее, что полевые звери превратятся, вопреки своей природе, в мирных овечек, — такое вегетарианство далеко отстоит от земного, прагматичного линкеусанства. Последнее, осознавая естественные пределы реальности, полагает, что и в них можно освободить созданных по образу Божьему от ярма рабства и пут зависимости. Разница налицо, но Ледер теперь осознал, что мы, линкеусанцы, должны заручиться поддержкой братского движения в нашей борьбе.
На столе стояли стакан молока и блюдце с вареньем, мой прерванный визитом Ледера ужин. Пододвинув их к себе, гость объявил, что он сегодня же намерен проверить свой вывод на моих родителях. Почему именно они избраны им для практического эксперимента? Все просто: моя мать известна своим упрямством и решительным нравом, а отец слыл до прихода в наш дом инспекторов Дова Йосефа человеком вдохновенным и равнодушным к людским насмешкам. Если их удастся сделать вегетарианцами, последние сомнения будут устранены и перед линкеусанством откроется дорога к широким массам.