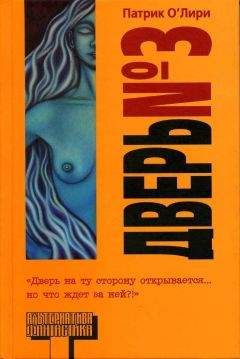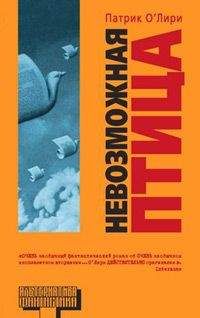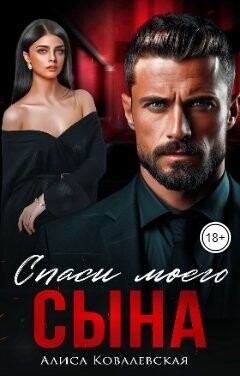Дом Хильди Гуд - Лири Энн
За стеклянной галереей оказалась новая часть дома. Не огромная, но и не маленькая. Мы прошли мимо маленькой библиотеки и столовой и попали в просторную кухню — белую, прохладную и милую. На центральном островке с рабочей поверхностью из мрамора стояла открытая бутылка красного вина и рядом — два бокала. Один был наполовину полон.
— Я пью красное, но могу открыть белое, если предпочитаете, — предложила Ребекка.
Впервые за долгое время я встретилась с человеком, который не знал мою «историю». Обычно, если меня приглашают, то говорят:
— Ну, Хильди, у нас есть все, что душе угодно: диетическая кока, сельтерская…
Ребекка предложила налить мне бокал вина так просто и бесхитростно, что я чуть не согласилась и не попросила налить мне бокал замечательного «пино нуар», который пила она. Но не стала, а вместо этого сказала:
— Знаете, пожалуй, мне пока бокал воды, — и пробормотала что-то о лекарстве, которое принимаю, — пусть думает, что я не употребляю только сегодня вечером, а обычно могу выпить за компанию. Как все люди на Земле.
— У меня рагу на плите, — сказала Ребекка. — Надеюсь, вы едите говядину.
— Разумеется, — ответила я.
— Пусть Магда пока покормит мальчиков. Я покажу вам свою студию, а потом спустимся и сами поедим, — объяснила Ребекка, с улыбкой протягивая мне бокал с водой. И сделала глоток вина из своего.
Мы немного поболтали, и когда вышли из дома, чтобы посмотреть студию, было уже темно.
— Можно было бы фонарик поискать, но луна почти полная, — сказала Ребекка, когда мы вышли из двери кухни. — Хильди, вы не откажетесь дойти в темноте?
Брайан уговаривает меня поставить тут прожекторы, но я их терпеть не могу.
— И я не люблю, — ответила я. И это правда. Почему-то люди, приезжая сюда, особенно из крупных городов — Бостона или Нью-Йорка, — не любят темноты и норовят осветить свою землю, как будто хотят, чтобы их было видно из космоса. Я люблю темноту и обрадовалась, узнав, что Ребекка тоже любит.
Луна и впрямь была почти полная, приближалось осеннее равноденствие, землю вокруг исчертили тени и свет. Гарри скакал у ног Ребекки, в возбуждении от ночной экскурсии. Мы прошли по тропинке через рощицу и достигли небольшого домика, у которого одна стена была сплошь стеклянной. Ребекка открыла дверь и, пошарив мгновение по стене, щелкнула выключателем. Три стены студии были побеленными и одна, как я сказала, — стеклянная; я представила, какой вид на болота открывается днем. Картины Ребекки поражали размерами — в основном импрессионистские морские пейзажи. Я не эксперт по искусству, но моя дочь посещала Род-Айлендскую школу дизайна и занималась немного живописью, прежде чем выбрала более доходную скульптуру (она снимает — с кем-то — мастерскую без водопровода в Бруклине; оплачиваю все это я).
На картинах Ребекки было вдоволь песка и моря, и я поинтересовалась: пишет она с фотографий или прямо на пленэре? Она пояснила, что крупные полотна создает здесь в студии, а маленькие написала в конце Ветреной улицы.
— Ага, — кивнула я. — Красивая улица. А вы знаете, что там в конце дом Питера Ньюболда — около пляжа?
Я спросила, не подумав, и на миг забеспокоилась: вдруг Ребекка смутится, что мне известно, что Питер — ее психиатр, но она просветлела лицом, услышав его имя, и ответила:
— Знаю. — Потом вытянула большой холст из угла. — Эту картину я написала с фотографии, сделанной на его лужайке.
— Прелестно, — сказала я. — Значит, вы были дома у Питера и Элизы?
Я никогда не ходила к психотерапевту и поэтому не представляла — принято или не принято пациентам общаться с доктором. Но мне показалось разумным, чтобы Макаллистеры с Ньюболдами подружились парами.
— Да… верней, я не заходила в дом, но фотографировала там, а Питер гулял по пляжу. Оказалось, я прямо перед его домом. Я и понятия не имела.
В этот момент я смотрела на Ребекку и видела, что она говорит неправду. Я ждала продолжения, но она замолкла и прикусила губу. Потом улыбнулась:
Ну, если в двух словах, выяснилось, что Питер тоже страстно увлекается фотографией, и он разрешил мне делать снимки с его лужайки.
— Ой, а вот эта мне очень нравится! — Я подошла ближе к полотну, которое держала Ребекка. Я могла бы и приврать. Мы все время от времени говорим неправду; обычно без всякой цели. Но я не могу лгать об искусстве. Не могу солгать, что мне что-то нравится, если на самом деле я равнодушна. Лучше я промолчу. И мне правда понравилась картина Ребекки. Я буквально почувствовала запах моря.
— Вообще-то это Питер сделал фото, — ответила Ребекка. — Он отдал снимок мне, когда я его похвалила, и я написала картину.
— Я восхищаюсь Питером, — сказала я. — Он такой милый. И наверняка прекрасный психотерапевт…
Меня интересовала реакция Ребекки, но она ответила, стоя ко мне спиной, — ставила картины на место у стены:
— Да… ну, он для меня не совсем психотерапевт. Он выписал мне нужное лекарство, вот и все. И… оно мне очень помогло. Я видела много психиатров, и мне выписывали разные антидепрессанты… Господи, мы с вами еле знакомы, а я все выкладываю! — воскликнула Ребекка. Она повернулась и улыбнулась мне. Ребекка прихватила бокал из дома и теперь подняла его с заляпанного краской столика и отпила. Мне было приятно смотреть, как Ребекка наслаждается вином. Я всегда наблюдаю за тем, как люди пьют. И радуюсь, если нахожу, как мне кажется, любителя качественного спиртного. Я подумала, что мы с Ребеккой — родственные души.
— Не беспокойтесь. Мне вообще рассказывают все. Но я не сплетничаю.
Я правда не сплетничаю. О серьезных вещах.
— Да не о чем рассказывать. Питер прописал лекарство, которое мне помогло. Теперь у меня нет депрессии.
— А мне всегда было любопытно про эти антидепрессанты, — сказала я. Мои обе дочки принимают их. А я таблетки в рот не возьму. — Они успокаивают? Дают кайф?
— Нет, от большинства, честно говоря, просто дерьмово. Бултыхаешься, как дурень в жиже. Но то, что мне предложил Питер… Постепенно мне становилось лучше и лучше. Однажды я вдруг обратила внимание на вкусную еду. Ела что-то совсем простое, кажется, булочку с начинкой, и вдруг подумала: «Ничего вкуснее в жизни не ела». Вот поэтому и набрала несколько фунтов. Я снова чувствую вкус еды.
Это правда, Ребекка чуть-чуть поправилась, но ей и нужно было набрать вес.
— Потом я гладила пса и подумала: «Как я раньше не замечала, какая мягкая у него шерстка?» Никогда не чувствовала ничего мягче.
— Ого, вам надо сниматься в рекламе для компании, которая производит то, что вы принимаете, — улыбнулась я, и Ребекка засмеялась.
Она действительно говорила завлекательно. Получалось, словно все время пьешь второй бокал. Не пьянеешь, но и не совершенно трезвая. Мы еще посмотрели картины, а потом решили идти в дом — ужинать.
— Ваше вино, — напомнила я. Она чуть не забыла его на столе.
— Ой, точно, — ответила Ребекка и схватила бокал. Остатки вина в этом бокале она допила, подав рагу, и потом мы за едой пили воду. Ничего не могу с собой поделать, подмечаю, как люди пьют. И всегда удивляюсь людям, способным выпить бокал-два вина — и перейти на воду.
Распрощавшись с Ребеккой в тот вечер, я поехала по Вендоверской Горке, но вместо того, чтобы повернуть к реке и дому, решила проехать мимо бухты Гетчелла — посмотреть на полную луну над водой. Несколько лодок были все еще пришвартованы к пирсу. Вот старый «крис-крафт» Оти Кларка, парусная лодка Стейна, катер Вестона… Я смотрела, как они качаются вверх-вниз в золотом свете луны, как мягко блестит вокруг вода, и думала о маленькой парусной лодке, которую когда-то привязывала здесь в бухте. Ее мне отдал Фрэнк Гетчелл в то лето перед колледжем. Старый «уиджон» Фрэнк нашел на свалке, спас и отремонтировал. Он поставил заплату на корпус, выкрасил в ярко-красный цвет и научил меня управляться с парусом. Кажется, «уиджо-нов» больше не производят. Их теперь не встретишь, а это прекрасный маленький парусник. Можно поставить кливер и главный парус; места хватает на двоих, но лодка маленькая, можно справиться и в одиночку. Мы назвали ее «Сара Гуд», в честь моей прародительницы, и много вечеров провели под парусами в гавани Вендовера; я — в полосатом бикини, в котором проходила все лето, Фрэнк — без рубашки, в мешковатых штанах. Наши конечности переплетались, мы ругались и смеялись, пока я изучала галсы и поворот фордевинд; и не раз я опрокидывала лодку. «Уиджон» не так просто поставить на киль, но Фрэнк научил меня залезать на шверт, чтобы переворачивать лодку весом своего тела. Он научил меня делать это самой — на случай, если окажусь в лодке одна. Я стала яхтсменом. Мы шли с легкостью, Фрэнк и я, даже почти не разговаривали — не было нужды. Мы вели лодку в молчании; Фрэнк откидывался спиной к корме, держа румпель под мышкой, с улыбающихся губ свешивалась сигарета. Я прислонялась к его крепким бедрам, зажав в руке шкот кливера и повернувшись лицом к солнцу. Так продолжалось всего одно лето. А потом я отправилась в колледж. Но «Сару Гуд» сохранила. У одного моего друга был трейлер, и мы в конце лета вытащили лодку; я хранила ее на папином заднем дворе — корпус просвечивал сквозь снег, словно широкая спина красного кита, окруженного бушующим белым морем.