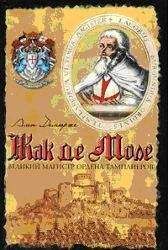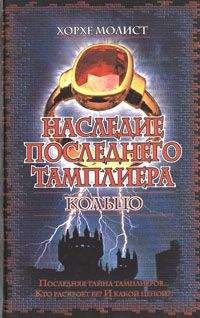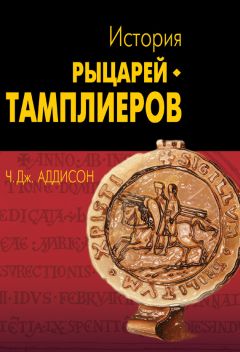Юрий Красавин - Валенки
— Набивай больше, Федюха, не покаешься, — советовал Степан.
Когда уже удалялись от свалки, Федя все еще оглядывался и выражение его лица позабавило старшего товарища.
— Что, страшно? — посмеивался он. — Ад кромешный, преисподняя. Да, парень, по-разному люди зарабатывают кусок хлеба. Еще и так.
— Они на водку, а не на хлеб, — возразил Федя.
— Не спеши осуждать, — строго сказал Степан, — не спеши. Человек — что омут: много всякого горя может вместить. Я два года воевал, полгода лежал в госпиталях — всякого навидался.
— Могли бы пойти куда-нибудь на фабрику, — возразил Федя. — Остальные-то москвичи вон какие чистенькие.
— Значит, не могут. Что мы о них знаем! Осудить легко кого угодно, на это большого ума не надо. Не от хорошей жизни они так-то. Мне этих баб жалко. Как подумаю: каждая из них девкой была когда-то.
— Ну вот… Зачем же они! Смотреть противно…
— А чем мы лучше их? Разве моя стируха краше этой свалки?
— У нас совсем другое, — не согласился Федя. — Мы хлеб сеем, город кормим. А валяем — это от нужды, а не от жадности.
— Они тоже не нужды. Много ли заработаешь на фабрике? А тут золотое место. Разобраться — не в отбросах они копаются, а в деньгах. Так-то. Будь у нас такое в Пятинах — вся деревня этим занималась бы.
— Не, — опять не согласился Федя. — Кто бы землю пахал?
— Пустое, Федюха! Много мы получаем в колхозе? Вот то-то. Эти знаешь как зарабатывают? Ого! Вот ты взял полпуда, я — пуд; считай, сколько мы с тобой оба им отвалили. А небось, за день не одни мы тут побывали. Точно говорю: это не свалка, а золотой прииск.
Возвращались опять на автобусе, на трамвае…
— Ну, Митрич! Ну, Змей-Горыныч! — посмеивался Степан. — Он у них царь и бог. И подпоит вовремя, и фонарь навесит под глазом любой из бабенок — попробуй его не послушайся. Ухорез! И денежки гребет лопатой… Угодил, как мышь в крупу.
Пассажиры осуждающе — а некоторые и гневно! — оглядывались на них. От их мешков пахло скверно. Федя отводил глаза: и стыдно было, и досадно, и зло брало.
33.Он купил кое-какие обновки: кепку-шестиклинку, красные калоши-тянучки, которые умельцы-москвичи клеили из автомобильных камер, рубаху праздничную, белую, в голубой горошек; ну и еще три кило крупки манной, столько же белой муки на оладьи, кулек сухого компоту… Степан Гаранин тоже запасся обновками да гостинцами, еще и побольше Феди. И оба они по пути к вокзалу купили московские сайки, дружно слипшиеся боками, и мороженое, от которого Федя даже растерялся: не успел надивиться — уже тает в руках!
На Савеловском вокзале опять они боялись милиционеров, теперь уже из-за вонючей шерсти; прятались за торговые палаточки, за камеру хранения, втискивали свои вещи в подтаявший, покрытый ошметками грязи сугроб.
Был уже вечер, но привокзальная площадь освещалась электричеством и была светла, будто днем. Федя с интересом наблюдал за всем, что тут происходило, не отходя ни на миг от вещей.
У вокзальной стены на скамье, уставленной узлами, сидели не городские, а явно деревенские женщины и тоже ели белую булку с мороженым. Проходившие мимо почему-то оглядывались на них, и на лицах некоторых Федя замечал брезгливую гримасу. Неужели тоже везут шерсть со свалки? Нет, женщины сидели вполне беззаботно, не опасаясь милиции, и одна из них, с большими печальными глазами, показалась даже Феде знакомой. Ну да, это она у шерстобойной машины в Верхней Луде так сострадательно советовала Степану Гаранину пойти в больницу, заметив кровь у него на спине.
А оглядывались на этих женщин, как догадался Федя, вот почему: руки у них были почти черны — не от грязи, нет, а от краски, точно такой, от какой черны они и у пятинских валял; краска въелась во все трещины кожи, в царапины и порезы, в заусеницы у ногтей — ее не отмоешь. И вот такими руками деревенские держали белейшую московскую булку и белейшее мороженое.
Он испытал горячее родственное чувство к ним, подумав: «Это наши…», и опять вызывающе смотрел на тех, кто оглядывался на них с осуждением.
«Да, мы такие, — думал он при этом. — А вам-то что? Мы не воруем и не побираемся; мы работаем… Осудить-то легко, на это большого ума не надо».
— Билетов нет, — сказал вернувшийся от вокзала Степан.
— Как это? — встревожился Федя. Ему и в голову не приходило, что если есть поезд, то билетов может не быть на него.
— А так: нету и все. Передо мной бабы из Дронникова взяли последние. Им повезло.
Вот-те на! Как же теперь?
— Пошли на прорыв, — сказал Степан.
— Куда?
Он, не отвечая, подхватил свои вещи, зашагал торопливо, оглядываясь направо и налево, будто ожидая нападения с какой-нибудь стороны.
Пересекли суетливую толпу возле вокзала, свернули из светлого места в темноту, спрыгнули с перрона и, спотыкаясь, пошли по шпалам.
— Ты куда, Степан Клементьич?
— Не кудакай, Федюха, потом объясню. Делай, как я! Времени у нас в обрез.
Он полез под вагон, волоча за собой чемодан и сумку, Федя за ним следом. Оказались между двумя поездами, опять поднырнули под вагон. Вынырнули — чумазый мужик с железяками в руках закричал на них издалека:
— Семафор уже открыт! Поезд вот-вот пойдет!.. Распластает вас, дурачье!
И заругался матерно. Степан, не обращая внимания на него, полез опять под поезд — тут Федя больно ударился хребтом обо что-то, застонал. Степан ему:
— Скорей, скорей, Федюха!
Наконец, очутились перед поездом «Москва-Углич», на который уже шла посадка, но с другой стороны, с перрона — там шумела толпа, слышались отчаянные крики. Степан проворно встал на подножку вагона, отпер чем-то вагонную дверь, нырнул туда и скомандовал шёпотом:
— Кидай вещи, я принимаю.
Покидали, влез и Федя; Степан по-хозяйски захлопнул и запер дверь. Осторожно заглянул в вагон — пассажиры с шумом и гамом рассаживались там. Несколько минут напряженного ожидания, когда по крикам можно было догадаться, что посадка заканчивается, поезд вздрогнул и тронулся.
34.— Держись за меня, Федюха, со мной не пропадешь. Эх, Зинки нету, она б нас прикрыла от ревизоров! Ну, ничего, обойдется. Главное — едем! Пошли туда, не бойся.
Вот теперь они вошли в вагон, затолкали, затиснули вещи среди прочих. Их ругали, Степан беззлобно отбрехивался и, этак добродушно матерясь, как-то сумел не только занять хорошее местечко для себя и спутника, но и вызвать даже сочувствие, признавшись, что они оба без билетов.
— Полезайте под сиденье, тут сундук, — советовали им, смеясь. — Мы на вас сядем.
У соседей, похоже, проснулся интерес: как будут выкручиваться эти двое?
Степан, пошучивая, зорко посматривал вдоль вагона.
— Проводница, — сказал он предупреждающе. — Эх, жалко, не Зинка! Граждане, ну вы тут присмотрите на нашими вещами, мы с Федюшкой удерем. Федор, за мной!
Вышли в тамбур. Тут Степан отпер дверь по ходу поезда, перешли в соседний. В этом тамбуре стояли и беседовали двое военных без шинелей, с поскрипывающими ремнями, оба чисто выбритые, на лицах обоих будто отблеск печного жара. Они оглянулись на вошедших, и почему-то сразу оробевший Степан спросил:
— Не угостите папиросочкой, товарищ майор?
Один из военных вынул из портсигара папироску, что-то щелкнуло у него в кулаке, показался огонек. Степан прикурил; продолжая разговаривать, военные ушли в вагон. В раскрывшуюся на несколько секунд дверь Федя увидел коридор, ковровую дорожку… Пусто было в этом коридоре: ни пассажиров, ни чемоданов или мешков — только ковры во всю длину вагона.
— Второй-то подполковник, — сказал Степан. — Ишь, в купейном едут! Коньячком от них попахивает! А я вот только до сержантов дослужился, потому и бегаю тут зайцем. Купейный-то билет мне предлагали в кассе, да не по карману честь. Орденов-то, Федюха, — ты видел? — у одного два, у другого один. У меня столько, сколько у них обоих.
Тут вышла проводница и строго спросила:
— А вы как сюда попали? Зачем вы здесь?
— Да покурить зашли с товарищами офицерами, — не моргнув глазом, отвечал Степан.
— Идите, идите в свой вагон. Нечего тут! Ить, заперто было. Или я не заперла?
Пришлось вернуться.
Так и ехали: то и дело выходили в тамбур и возвращались к своим вещам. Степан пошучивал с соседями, но поглядывал беспокойно, был все время настороже, и не зря: в дальнем конце вагона, там, где проводница, появились вдруг двое в форменных шинелях и фуражках. Степан снялся с места особенно легко и проворно. Выскочили в тамбур, он отпер боковую дверь, скомандовал:
— Делай, как я! Руками за поручень, ногу закидываешь туда, понял? Нащупаешь, на что встать, и смело махай. Вниз не гляди. Не трусь! Постоим на буферах, пока ревизоры пройдут.
Распахнул дверь — ветер и грохот колес вырвались в тамбур — и вдруг исчез. Феде показалось, что Степана снесло ветром, но услышал его спокойный голос: