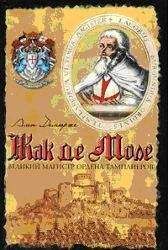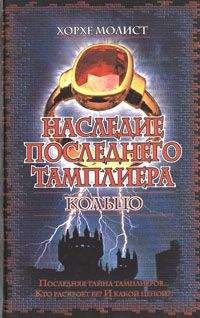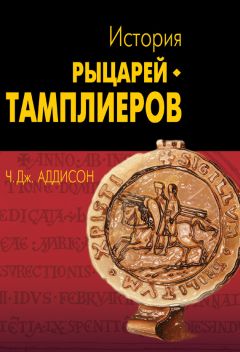Юрий Красавин - Валенки
Ничего не понятно!
30.До Калязина добрались засветло. На вокзал не пошли, а свернули в сторону и, перейдя через станционные пути, свалили свою ношу прямо в сугроб за невысоким кирпичным строением, вроде склада. Степан даже умял вещи поглубже и, ногами подгребая, забросал снегом и свое, и Федино. При этом оглядывался сторожко и приговаривал:
— Береженого бог бережет. Стой, Федюха, тут, не отходи. Если подойдут мильтоны и выкопают — откажешься: не мое, мол. Понял? Я не я, и лошадь не моя, я и не извозчик — вот так. Пойду, разведаю. Тут как на вражеской территории…
Вернулся он нескоро, в легком подпитии и потому воодушевленный.
— Дронниковские клухи пришли с котулями и прямо на вокзал вперлись, — сказал, радуясь неведомо чему. — И вот дурищито: каждая на свои котули по подушке привязала: мол, для маскировки. Хо-хо! Ну, бабы!.. На них сразу мильтон глазом вострым. Я им мигаю: уметайтесь, мол! Кажется, сообразили.
Уже темнело. Ветерок поднялся, вьюжило немного. Спрятанные в сугроб вещи припорошило так, что, наверно, мильтонам можно было отыскать их только с собаками.
— Ну, сейчас билеты будут давать, — сказал Степан с таким видом, словно собирался кинуться в холодную воду. — Доставай деньги, я и на тебя куплю, а ты стой тут.
Он опять ушел и надолго. Наконец, прибежал: «Поезд идет!»
Федя схватился за свой чемодан, но Степан придержал его: «Погоди, погоди…». Выглянул из-за угла, скрылся, но вернулся скоро:
— Пошли, Федюха! Скорей!
Поезд останавливался в Калязине всего на три минуты. Он уже трогался, когда они подбежали, но именно так и рассчитал Степан: садиться, когда поезд уже отходит. Одну за другой он закинули вещи на площадку, мимо посторонившейся проводницы, а когда влезали, мимо проплыл милиционер, стоявший на перроне и провожавший их взглядом.
— Стоит, разиня варежку, — весело сказал Степан. — Привет тёще, служба!
Проводница поторопила их нелюбезно, и они ввалились в вагон, где сидели и лежали пассажиры. Вещи тут занимали и полки, и проходы, однако пятинские валялы кое-как протиснулись, нашли местечко и для себя. Федя упятился в темноту плацкартного купе, чемодан ему помогли закинуть на самую верхнюю полку под потолок. Степан хотел поступить и со своими вещами так же, но места не хватило, и он расположился у окна. Очень неплохо устроился еще и потому, что прикрыл сумку с валенками чужой пальтухой, а хозяйка этой пальтухи, старушка богомольного вида, сидела напротив, с нею Степан уже пошучивал.
Поезд бодро вздрагивал, набрав ход; за окном мелькали в ночи неясные тени; говор и стук и всяческое шевеление наполняло вагон — восторг постепенно овладевал Федей: он впервые ехал в поезде!
— Смотри-ка, и дронниковские клухи здесь, — опять непонятно чему обрадовался Степан. — Привет, бабоньки!
Те, кого он назвал «дронниковскими клухами», сидели неподалеку и тоже улыбались Гаране. Это значит, они из деревни Дронниково и знакомы ему с каких-то пор. Небось, будучи еще парнем, ходил к ним гулять. Их было три — все толстые, увязанные шалями, и сумки-котули у них были толстые, бокастые, причем чуть ли не в каждой и впрямь привязаны подушки.
— Тоже, небось, в Москву едут, — сказал Степан Феде, приглушая голос. — Собьют нам цену, а? Как ты думаешь?
Федя воспринял это всерьез, озабоченно пожал плечами: в самом деле, могут сбить.
— Эх! — совсем развеселился Степан. — Зря я не сдал их милиции.
Тут, легки на помине, вошли двое милиционеров и стали пробираться по проходу. Один из них остановился возле Степана и, откинув старушкину пальтуху, пощупал сумку, спросил:
— Валенки везешь?
Степан явно смутился:
— Да нет, так… барахло всякое.
Милиционер опять пощупал и сказал своему напарнику:
— Валенки, чего там!
И пошел дальше, остановился возле дронниковских, что-то спросил. Женщины отвечали полушепотом.
Второй же мильтон сказал Степану, мотнув головой:
— Ну-ка, мужик, давай выйдем.
Степан встал. Они пошли в ту сторону, где проводница лязгала железной дверкой печки. А трех дронниковских первый милиционер повел в другую сторону вагона. Федя испуганно следил: как это? арестовали их всех, что ли?
Он сидел сам не свой. Утешало только одно, вещи Степана — вот они, остались, и тот должен за ними вернуться.
«А если не вернется — что тогда? Ехать в Москву? А там куда»?
Федя запаниковал.
Двери с той и с другой стороны вагона открывались и закрывались, но входили и выходили чужие люди. Степан не показывался. Не было видно и дронниковских. Может, их хотят всех ссадить? Вот сейчас остановится поезд, и они останутся… Тревога Феди нарастала. Он то вставал, то садился.
Наконец, появился возбужденный, раскрасневшийся Степан, сел на свое место, подмигнул Феде ободряюще.
— Отпустили? — сочувственно спросила старушка.
— А то! — лихо отвечал Степан. — Штраф хотел сорвать! Вот гад, а? Это с меня-то, фронтовика, и штраф! Ну, я ему…
— А ты ему чего?
— А вот так рубаху распахнул: на тебе! Видишь? Вот, полюбуйся.
И он распахнул рубаху на груди до самого пояса, обнажив свои страшные шрамы; грудь Степана была буквально исковеркана. Сидевшие поблизости женщины ахнули, старушка пробормотала:
— Господи боже! Да как же ты еще жив-то?
— Я весь такой, и ниже точно так же, — с вызовом сказал Гараня. — Могу показать, не жалко. Перепахан и заборонен, и осколками засеян… У меня в сердечной сумке два осколка — так врач сказал. Три хирурга зашивали — уморились зашивавши, и нитки кончились. А он что со мной хотел сделать? Хошь — бери меня голыми руками!
Степан, ставший в эти минуты именно Гараней, засмеялся и от удовольствия головой покрутил:
— Испуга-ался… Ладно, говорят, катись.
— Застегнися, герой, — сказала мимо проходившая проводница в шинели. — Этот молоденький, потому и отпустил. Погоди, нарвешься на старого.
— Зин, ну ты меня знаешь, — намекнув на что-то, сказал проводнице Гараня. — Меня ж не так просто…
Молодой милиционер, который выводил его, прошел мимо, не взглянув на Степана.
— У меня три ордена фронтовых, милый ты мой губошлеп, — сказал ему вслед Гараня. — Я столько раз через фронт ходил, сколько ты на горшок. Туда налегке, обратно с немцем. Я их, гадов, по выбору брал — только крупных, чтоб чином не ниже обер-лейтенанта. Понял?
— Развоевался, — сказала проводница уже поласковей, проходя еще раз.
— Ну, Зин, ты меня знаешь…
Дронниковские тоже вернулись на свои места, заплаканные, удрученные. Степан сходил к ним, поговорил, вернулся.
— Оштрафовали клух, — сказал он, морщась то ли от боли, то ли от досады. — По сто рублей содрали с каждой. На испуг взяли: или, мол, штраф платите, или слезайте с поезда и будем разбираться, куда едете, что везете. Видят: бабы бестолковые, напугать их — раз плюнуть. С кого еще сорвать? С них, раз с Гарани не удалось. Вот так-то, Федюха: как в улье у пчел, не получается. У нас другие порядки.
Старушка, сидевшая напротив, ласково смотрела на него.
— А квитанцию дали? — спросила она.
— Какую квитанцию?
— А вот что оштрафовали.
— Что ты, бабушка! Кабы они в государственный карман мзду-то собирали, а то ведь в свой собственный: на выпивку!
Старушка осуждающе покачала головой:
— Ай-я-яй!
— Квитанцию… — проворчал Степан. — Попадись эти мародеры мне на фронте…
Он опять, явно жалея, посмотрел на дронниковских.
— Едут, дурехи, между прочим, на Тишинский рынок. Я им: на Тишинском барахолки нет, там валенки не продашь. На Перовский вам надо! Так, вишь, знакомых нет возле Перовского, не у кого остановиться. И я им тут не помощник, вот такое дело.
Только что был веселым — теперь нахмурился, помрачнел лицом.
— Слушай, — сказал он опять появившейся проводнице. — Поищи гармонь, я тебе сыграю, как в прошлый раз. Поищи…
И вот чудно! — та нашла ему где-то гармонь; должно быть, принесла из другого вагона, и Степан ушел к ней в служебный чуланчик, откуда через некоторое время послышалось:
— Бывали дни веселые,
Я по три дня не ел…
Всю ночь Федя не спал. Боялся, что опять придут милиционеры, на этот раз «старенькие», и заберут-таки Степана. С ним-то, пока он рядом, надежно — как за каменной стеной. А без него пропадешь.
31.— Перовский рынок! — сказал кто-то рядом, и Федя вздрогнул.
Нет, никто не говорил — это он задремал, ему и приснилось. За окнами мелькали огни большого города, светало.
Высадились на бестолковом, суетливом Савеловском вокзале, где Федя сразу слегка ошалел от сутолоки и многолюдья. В этом состоянии ехал и в трамвае, держась за Степана. Потом они, двое деревенских со своими котулями, вошли в одну из дверей огромного дома, оказались в какой-то квартире, вернее, в коридоре ее, заставленном шкафами, табуретками, калошами, вешалками и непонятного назначения предметами. Степан называл кого-то Инокентием Ильичом, много раз извинялся, велел Феде вытащить из своего чемодана две пары валенок и завернуть каждую отдельно во что-нибудь — это взять с собой, а остальное оставить тут, упихнув за шкаф. Сам он сделал так же, и с этими свертками валялы отправились на Перовский рынок.